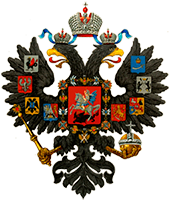Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государь Великий Князь Владимир Кириллович
Е.И.В. Великая Княгиня Леонида Георгиевна
Россия в нашем сердце.
I. Великий Князь Владимир Кириллович
1
Я родился в Финляндии, куда незадолго до моего рождения, летом 1917 года, выехали из Петрограда мои родители. Нелегкое решение об отъезде было принято отцом после того, как он убедился, что не в силах повлиять на развитие этих событий. Главным образом, оно было продиктовано тем, что моя мать ожидала меня. В столице оставаться становилось опасно, обстановка там день ото дня делалась все тревожнее, хотя никто и не предполагал, что может разразиться такая невероятная катастрофа, какая вскоре произошла. Отец решил временно вывезти семью в более безопасное место. Его выбор пал на Финляндию, тогда еще входившую в состав России. Там в тот момент было относительно спокойно. В июне семнадцатого года родители уехали в Финляндию, не подозревая, что отъезд окажется безвозвратным.
Мой отец, Великий Князь Кирилл Владимирович, был старшим сыном Великого Князя Владимира Александровича, брата Императора Александра III, и Великой Княгини Марии Павловны, урожденной принцессы Мекленбург-Шверинской. Революция застала его в чине адмирала флота, он командовал Гвардейским экипажем, но после отречения Николая II и провозглашения России республикой счел, что не мог более быть полезен Государю, и подал в отставку. Военная служба была в Императорской семье традицией, практически все ее члены получали военное образование и затем состояли на службе в каких-либо гвардейских полках. Традиция эта давала войскам чувство близкого контакта с Императорской семьей, сознание того, что она ими интересуется. Это имело очень большое значение, потому что вооруженные силы тогда, как, впрочем, и теперь, представляли собой очень важный фактор в государственной жизни. Оба брата моего отца также посвятили себя военной карьере, а их отец, мой дед, Великий Князь Владимир Александрович, был Главнокомандующим Санкт-Петербургского военного округа и гарнизона. Отец получил первоклассную подготовку морского офицера и в чине лейтенанта русского флота участвовал в русско-японской войне.
Во время этой войны он чудом не погиб при взрыве от японской мины печально известного броненосца "Петропавловск", во время которого был смертельно ранен адмирал Макаров. В момент взрыва отец находился рядом с адмиралом, на мостике, и получил довольно сильный ожог, но сумел спрыгнуть в воду, и его сразу же засосало в глубину. Это было ранней весной, холода стояли почти что зимние, но, к счастью, отец был одет в теплую верхнюю одежду, которая не сразу намокла, и ему удалось выплыть на поверхность, где его подобрали спасатели. Всю жизнь потом он считал свое спасение чудом. Но эта трагедия оставила в его душе глубокий след, и, скорее всего, именно тогда было подорвано его здоровье. Он рано умер, всю свою жизнь посвятив тому, что считал необходимым и правильным, - служению своей стране.
Моя мать, урожденная принцесса Виктория-Мелита Саксен-Кобург-Готская, была дочерью принца Альфреда, второго сына английской королевы Виктории (1), и Великой Княгини Марии Александровны, дочери Императора Александра II. Таким образом, мой отец приходился ей двоюродным братом. У нее было еще три сестры, и эти принцессы, все красивые и артистически одаренные, выделялись среди принцесс своей эпохи. Старшая сестра, Мария, вышла замуж за румынского короля Фердинанда. Очень красивая, она, так же, как и моя мать, недурно рисовала, но больше ее забавляло писать. Она оставила книгу воспоминаний. Это была очень романтическая королева, она любила все театральное, экзотическое. Ей, видимо, не очень весело было жить в Румынии, и она постоянно выдумывала себе всякие занятия, и это было не от внутренней пустоты - напротив, она была очень неглупой, - а скорее из-за потребности чем-то скрасить свою жизнь. У тети румынской в молодости была большая и взаимно несчастная любовь: она полюбила своего двоюродного брата, который впоследствии стал Английским королем Георгом Пятым. Церковь такие браки допускала, но ее, во всяком случае, решили выдать за другого - Румынского короля. Вторая моя тетя, Александра, была замужем за принцем Гогенлоэ. Он был старшим в роде, главой этой большой семьи - их очень много в Германии. Она была менее красива, чем Мария, но очень славная, и я ее больше всех любил - может быть, из-за того, что чаще видел: несколько лет подряд мы жили зимой в Кобурге, где она со своим мужем также проводила зимы, и в доме моей бабушки, Великой Княгини Марии Александровны. Самая младшая сестра матери, тетя Беатриса, была замужем за испанским инфантом. У нее в Испании я провел несколько лет после второй мировой войны, не имея возможности вернуться в свой дом во Франции.
Мама была в первом браке замужем за герцогом Гессенским, родным братом Императрицы Александры Федоровны. Брак этот оказался неудачным, и они очень скоро разошлись (2). И, хотя разрыв произошел не по маминой вине, этот развод, гораздо в большей степени, нежели близкое родство, явился причиной многих проблем, когда мои родители решили соединить свои судьбы. По российским законам, все члены Императорской семьи перед вступлением в брак должны были испрашивать разрешения Главы семьи, в данном случае, Императора Николая П. Без этого брак считался недействительным, и дети от подобных браков, как сказано в Основных Законах Российской Империи, не могли пользоваться "никакими преимуществами, Членам Императорского Дома принадлежавшими". Родители знали, что Императрица отнеслась к недавнему разводу моей матери с ее братом отрицательно, хотя причины его ей были, конечно, известны. Испрашивать разрешения на брак в тот момент означало получить верный отказ, но моя бабушка, Великая Княгиня Мария Александровна, была женщина решительная. Она сказала влюбленным: "Дети мои, вы друг друга любите, и я вас благословляю. А потом мы все это уладим". Они обвенчались в октябре 1905 года в Тегензее, в Баварии, в имении их друга графа Адлерберга, где в семейной часовне был совершен православный обряд. Моя мать перешла в православие и стала называться Викторией Федоровной.
Последствия не заставили себя ждать. Когда вскоре после свадьбы отец поехал в Санкт-Петербург, чтобы объясниться с Государем, в Царском Селе его ждал холодный прием. Отец тотчас же уехал обратно за границу. Мой дед, Великий Князь Владимир Александрович, отправил тогда же племяннику письмо с прошением об отставке, и Император отставку принял. Впрочем, потом все, действительно, "уладилось", как и предсказывала моя бабушка, герцогиня Кобургская. Отец с матерью поселились у нее в Кобурге, на вилле "Эдинбург", и некоторое время спустя Император простил их и признал их брак. Моя другая бабушка, Великая Княгиня Мария Павловна, известила об этом сына краткой телеграммой, в которой стояла одна только фраза, написанная по-французски: "Та femme est grande-Duchesse". Так что постепенно эта история забылась, и отношения с Императорской семьей восстановились. Полная же реабилитация моего отца и разрешение вернуться на родину были связаны с кончиной его дяди, Великого Князя Алексея Александровича, осенью 1908 года. Отец получил от Государя разрешение присутствовать на похоронах в форме морского офицера, то есть был восстановлен в своем прежнем чине. Это событие было большой радостью для всей семьи. Правда, здоровье моего деда, отчасти из-за опалы старшего сына и вынужденной отставки, к тому времени сильно пошатнулось. К моменту приезда отца он был уже серьезно болен. Зимой 1909 года его состояние резко ухудшилось, и мой отец, вызванный срочной телеграммой, уже не застал его в живых. Дед скончался 13 февраля и был похоронен в Петропавловском соборе.
В том же году мои родители вернулись в Россию с двумя дочерьми: Марией, родившейся в 1907 году, и новорожденной Кирой. Отец после долгого перерыва возобновил свою службу морского офицера на крейсере "Олег" и год спустя был произведен в ранг капитана. Служба имела для него огромное значение. Когда незадолго до кончины он начал работать над своими мемуарами, которых ему не привелось закончить (они обрываются на весне 1917 года, дате, переломившей пополам жизнь стольких миллионов россиян), он, не задумываясь, дал своей книге такое название: "Моя жизнь на службе России тогда и теперь". Название четко выражало его позицию. Эта книга была его манифестом. Она была издана уже посмертно в Англии.
2
Накануне первой мировой войны родители с дочерьми гостили в Финляндии, в имении своих близких друзей, семьи фон Эттер. Имение это называлось Хайкко, оно находилось неподалеку от Гельсингфорса. Внезапно им пришлось уехать в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать на приеме, организованном в честь президента Французской Республики Раймона Пуанкаре, прибывшего в Россию с визитом. Девочек они оставили в Хайкко, и им стоило больших трудов вернуть их в Санкт-Петербург, потому что в июле внезапно началась война, и все поезда были переполнены войсками. Отец, как, впрочем, многие, сознавал, что эта война была для нас чрезвычайно невыгодным предприятием, поскольку политическая обстановка внутри страны после японской войны и последовавших за ней событий была очень нестабильной. Думаю, что и Государь тоже это сознавал. Но уже вся наша политика и союзы, заключенные с Францией и, через Францию, с Англией, ставили нас на стороне наших союзников.
Я сам годы спустя имел подтверждение о трудном положении Государя от наследника кайзера, кронпринца Вильгельма, за сына которого вышла замуж моя сестра Кира. Ее муж был вторым сыном кронпринца, но, поскольку старший сын женился не по законам семьи и должен был отказаться от прав на престол, муж моей сестры стал Главой семьи. Я гостил у них в Берлине в конце 1938 года, и как раз в тот вечер, когда мы собрались встречать новый, 1939 год, кронпринц рассказал мне о своем разговоре с Императором Николаем II незадолго до войны, когда уже чувствовалось, что отношения становятся все более натянутыми, совершенно помимо происшествия, которое дало искру для того, чтобы разразилась война, - убийства эрцгерцога Австрийского. Кронпринц вспоминал, что, когда он заговорил об этом, Император сказал ему: "Мой дорогой Вилли, у меня руки связаны". Он сказал это по-английски. "И тогда, - сказал кронпринц, - я понял, что положение его было действительно весьма трудным". Государь с ним в детали не входил, иначе кронпринц мне бы об этом рассказал. Его рассказ отпечатался в моей памяти так ясно, что, когда я потом вспоминал об этом, у меня всегда в мельчайших подробностях вставал перед глазами этот салон в Потсдамском дворце и новогодняя ночь накануне второй мировой войны, когда мы с принцем вдруг заговорили о начале первой. "Для меня тогда стало ясно,- сказал кронпринц, - что мало было надежды на то, чтобы в случае какого-то конфликта Россия не была втянута в военные действия". С немецкой стороны тоже многие этого боялись. Известно, что кайзер тогда (хотя это было и слишком поздно, над ним смеялись, но я думаю, что это было совершенно серьезно) телеграфировал Государю, умоляя его остановить мобилизацию. Во всяком случае, как в Германии, так и в России было достаточное число людей, которые ясно отдавали себе отчет в том, что такой конфликт будет чреват весьма тяжелыми последствиями, если не катастрофой, для всех стран, расположенных на этом материке, и понимали, что даже победа, которая представлялась для нас и для наших союзников вполне возможной, поскольку морские силы Германии не были так велики, как силы союзников, и блокада Европы могла оказаться весьма эффективной, не будет выгодна ни той, ни другой стороне. Так впоследствии и оказалось, потому что в результате были приведены к крушению три великие континентальные державы - Россия, Германия и Австрия... Как говорится, что и требовалось доказать - я говорю это с печальной улыбкой, потому что, будь эти три империи в союзе, к евразийскому материку никто не мог бы подступиться. Но это уже из области фантазии.
Когда я думаю о событиях того времени, известных мне по семейным преданиям, они представляются мне в виде какой-то античной трагедии, в конце которой Государь оказался в самое трудное время почти совершенно один. Каждый, кто хотя бы немного изучал те времена, конечно, помнит, что Он написал в своем дневнике: "Вокруг измена, и трусость, и обман". Это относилось, я думаю, в первую очередь к некоторым военным, а также политическим деятелям, но, возможно, к сожалению, касалось и его родственников. Потому что даже старейший член семьи, Великий Князь Николай Николаевич, послал ему тогда телеграмму, текст которой отчетливо отпечатался у меня в памяти. Он телеграфировал Императору: "Коленопреклоненно молю об отречении". Для меня это почти равносильно предательству, потому что он должен был понимать, что переход власти в тот мо-мент к любому другому человеку - к тому же передать власть сыну Государь не мог из-за его состояния здоровья - означал усложнение и без того крайне тяжелой обстановки. И думаю, что такая телеграмма, полученная от старейшего члена семьи, должна была произвести на Императора совершенно удручающее впечатление. К тому же его брат, Великий Князь Михаил Александрович, оказался совершенно неподготовленным к такому повороту событий, хотя обстоятельства, а именно болезнь Наследника-Цесаревича, тому служили. Вступив без позволения Николая II в брак, вдобавок еще и неравнородный, лишавший его потомство права на престолонаследие, он долго жил за границей и вернулся в Россию лишь перед самой войной. Что касается остальных членов семьи, то в большинстве своем они в тот момент или были заняты работой по линии внутренней политики, или находились на фронте - и те и другие были военными. И, я думаю, большую роль сыграло то, что многих из них происшедшие события застали просто врасплох, и они не знали, как на них реагировать. К тому же некоторые из них интриговали против Государыни, как впоследствии против моего отца и меня самого, не понимая, что этим они рубят сук, на котором сидят.
Я всегда считал, что те, кто просил Государя отказаться от престола, совершили очень крупную ошибку, потому что, даже если они думали, что в сложившейся тяжелой ситуации была какая-то его вина, ему скорее надо было помочь оставаться у кормила - я сравниваю это тяжелое внутреннее и международное положение в связи с войной с бурей, во время которой вдруг задумали менять капитана корабля. Вся эта трагедия происходила на фоне общего разложения армии и грандиозной пропаганды, направленной на дискредитацию Царской семьи, которая велась подрывными элементами, стремившимися привести Россию к крушению. Мой отец совершил в те дни последнюю попытку контакта с единственным органом, что еще оставался от фактически легальной власти в государстве: с Государственной Думой. Он привел туда Гвардейский экипаж, одну из тех редких частей наших войск, еще не затронутых тогда разложением. Годы спустя, в эмиграции, некоторые недоброжелатели украсили этот исторический факт фантастической подробностью - красным бантом, который будто бы приколол на свой мундир отец, идя в Думу (3). Все это чистый вымысел, тем более, что сам Гвардейский экипаж оставался тогда верным монархии, а моего отца там очень любили и уважали. Эта попытка, однако, успеха не имела, поскольку было уже слишком поздно. На следующий день Император отрекся от престола за себя и за Наследника-Цесаревича в пользу своего брата Великого Князя Михаила Александровича, который согласился принять власть лишь в том случае, если так решит Учредительное собрание. Как известно, не дожидаясь его созыва, Россия была объявлена республикой. После отречения Государя мой отец оставил службу, а вскоре после провозглашения России республикой, решив переждать, чтобы увидеть, как будут развиваться события, выехал с семьей в Финляндию. Для выезда из Петрограда потребовалось разрешение Временного правительства. Отец обратился за ним к Керенскому, с которым был прежде знаком и который был тогда военным министром, и необходимые документы были сразу же даны. Наша семья покинула Петроград, увезя с собой наших двух англичанок и нескольких человек прислуги.
Еще в самом начале войны Император Николай II вернул в Россию из-за границы все деньги, которые были у него в иностранных банках. Он совершил тогда этот патриотический акт в надежде, что и другие последуют его примеру, не только члены династии, но и другие русские, которые имели средства за границей. И действительно, многие тогда перевели деньги в Россию, сделали это и мои родители, и большинство членов Императорской семьи. Таким образом, у тех из них, кто после революции выехал из России, средств как таковых не было, поэтому большинству из них пришлось очень трудно, в том числе и моим родителям. Все, что они смогли вывезти, это небольшое количество фамильных драгоценностей, которое дало им возможность некоторое время довольно скромно существовать.
События тех лет известны мне по рассказам родителей и по дневнику, который вел мой отец все эти годы. Иногда записи в дневнике были краткие, иногда более подробные, в зависимости от происходящего. Этот дневник и помог мне потом восстановить даты и события того времени, когда меня еще не было и когда я был слишком мал, чтобы что-либо помнить. Сам я потом никогда не вел дневник, о чем теперь жалею, но в юности, когда выдавалось свободное время, мне больше хотелось почитать или заняться спортом, а после того, как скончался мой отец, слишком много времени стало уходить на переписку, и было уже не до того.
Приехав в Финляндию, родители решили остановиться в Борго, маленьком городке недалеко от Гельсингфорса. Их выбор пал на этот городок, хорошо им знакомый, потому что он находился поблизости от имения их друзей, Хайкко, в котором они часто гостили. В последний раз моя мать жила там летом 1916 года с моими сестрами, и к ним приезжала туда моя бабушка, Великая Княгиня Мария Павловна. Сестры гуляли в парке, играли и купались, а мама писала свои картины и ежедневно посещала раненых в небольшом военном госпитале, устроенном в имении. В первый же день по приезде отец снял в Борго дом, где осталась ночевать прислуга, а сами родители с детьми и обеими англичанками поехали в Хайкко, где и провели первую ночь, а на следующий день вернулись в Борго. Они не остановились, как прежде, у Эттеров, потому что мама не хотела рожать в чужом доме, и провели все лето в городе, в доме, где я и родился 30 августа 1917 года. Но уже в начале сентября, как только мама немного поправилась, они сдались на уговоры старых добрых друзей, уверявших, что в Хайкко им будет безопаснее, и переехали к ним. Там меня и крестили 18 сентября. Крестил меня отец Александр Дернов, бывший протопресвитер дворцового духовенства, который (тогда это еще было возможно) был выписан из Петрограда. С ним прибыл и псаломщик В. Ильинский. Они даже привезли с собой дворцовую купель и книгу, в которую записывались при крещении новорожденные члены Императорской фамилии и расписывались свидетели. Крестными родителями были бабушка, Великая Княгиня Мария Павловна, и дядя, Великий Князь Борис Владимирович, оба, разумеется, заочно, потому что их тогда с нами не было. На крестины собрались финские друзья моих родителей и несколько русских эмигрантов.
Даже в Хайкко наша семья не чувствовала себя в полной безопасности. Революция разгоралась и перекинулась в Финляндию. В Гельсингфорсе стоял на якоре весь наш Балтийский флот, и, хотя командование было пока еще в руках офицеров, их авторитет был уже довольно шатким из-за революционного разложения, в котором новоявленные революционные матросские комитеты играли не последнюю роль. Финляндия в тот момент находилась на стадии отделения от России, и несогласие между националистическими элементами и коммунистическим влиянием принимало угрожающие размеры. Другими словами, Белое движение против красных уже начиналось и там, что неизбежно должно было привести к гражданской войне.
Однажды в имение пожаловала группа матросов. Матросы заявили хозяевам, что им приказано обыскать дом. В то время было уже известно, что означает такой матросский обыск, и понятна была тревога моих родителей. Они уже имели сведения о том, что большая часть императорской семьи была арестована, и приготовились к самому худшему. Поднявшись с нами, детьми, на второй этаж, они стали ждать неизбежной развязки. Потекли долгие минуты напряженного ожидания, но, к их удивлению, никто не пришел их арестовывать. Как оказалось, когда хозяева сказали матросам, что в их доме нет нашей семьи, они, посовещавшись, не стали обыскивать дом и удалились. Впоследствии выяснилось, что один из них служил раньше на крейсере "Олег" под командованием моего отца. Отец пользовался большой популярностью среди своего экипажа. Этот человек и убедил товарищей не обыскивать дом. Возможно, что эта случайность, а также и то, что мы жили в глуши, вдали от революционных властей, спасло нашу семью, потому что Великий Князь Георгий Михайлович, проживавший в Гельсингфорсе, был арестован и отправлен в Петроград.
В декабре гражданская война между белыми и красными финнами была уже в полном разгаре. В округе происходили между ними частые стычки. Неподалеку от Хайкко один раз был настоящий бой, в имении слышны были выстрелы. Наша семья находилась в затруднительном положении в связи с нехваткой пропитания. Достать самые необходимые продукты - молоко, мясо, масло и хлеб - становилось все труднее. Зима выдалась суровая, что, впрочем, не мешало моим сестрам весело играть в большом заснеженном парке вместе с маленькими Клейнмихелями, Сережей Меликовым и Володей Эттером, которые все в ту зиму жили в Хайкко. В январе - феврале 1918 года положение ухудшилось. Вооруженные банды стали нападать на помещиков, и один из наших соседей, по фамилии Бьоркенгейм, был заведен в лес и убит. Это случилось всего лишь в двух милях от Хайкко. Как раз в это время в имении скрывались семеро белых финнов, они прожили в доме около трех недель. Красным стало об этом известно, и они принуждены были уйти. 9 февраля отряд красных финнов, человек около пятнадцати, появился перед нашим домом. Они спрашивали, нет ли в доме оружия. Несколько человек вошли в дом и мельком осмотрели первый этаж. Мы все были на втором этаже, но никто из них даже не попытался туда подняться. Они вели себя очень вежливо, и, судя по тому, какие вопросы они задавали, было понятно, что они получили приказ никого в Хайкко не трогать.
Всю зиму продолжалась война, и мы были практически отрезаны от окружающего мира, до нас доходили только слухи, иногда самые фантастические и противоречивые. 27 февраля отец получил известия из Гельсингфорса: французское правительство справлялось о положении нашей семьи и предлагало в случае необ-ходимости предпринять официальные шаги для нашей эвакуации. Отец колебался, не зная, на какой шаг решиться. Остаться - значило продолжать подвергаться опасности, но он говорил, что Россия скоро будет освобождена от красных, и уехать было для него все равно, что дезертировать. Несколько дней спустя пришли также известия от короля Густава Шведского, который через шведскую дипломатическую миссию предлагал свою помощь нам и другим членам Императорской семьи. Отец поблагодарил короля за оказанное внимание, признался, что не считает положение своей семьи совершенно безопасным, но что, по его мнению, момент для вмешательства еще не настал. Он дал такой ответ, потому что продолжал надеяться на скорое падение большевиков. Март и апрель ознаменовались прибытием в Хайкко, а некоторое время спустя и в Гельсингфорс немецкого эскадрона и предъявлением немецкого ультиматума, требовавшего вывода российского Балтийского флота в Кронштадт, а также вступлением в Ханго немецкого Железного дивизиона под командованием генерала фон дер Гольца и окончательной победой генерала Маннергейма и финской белой армии над красными. Гражданская война окончилась, и жить стало значительно легче. Генерал Маннергейм, а позднее и генерал фон дер Гольц встречались и беседовали с моим отцом.
В конце осени 1919 года наша семья вернулась в Борго. Жизнь вновь вошла в свое русло, снабжение было удовлетворительным, и порядок был восстановлен. Но зимой 1920 года началась эпидемия гриппа, так называемой "испанки", унесшая много жизней. Среди ее жертв оказалась и наша английская гувернантка, смерть которой тяжело переживала вся семья. После окончания войны у нас, наконец, появилась возможность проехать через Германию в Цюрих, где ждала нас моя бабушка со стороны матери, Великая Княгиня Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская, с которой семья не виделась с самого начала мировой войны. Хлопоты завершились удачным исходом, и наша семья смогла, наконец, покинуть гостеприимную Финляндию.
Мне не было и трех лет, когда мы уехали из Финляндии, и я ее почти не помнил. Смутно вставали в памяти отдельные картины, но, что из них было воспоминанием, а что навеяно рассказами старших, сказать трудно. Я знал только, что имение, в котором мы провели первые годы изгнания, было продано после второй мировой войны наследниками, но не прямыми, потому что последний фон Эттер был, кажется, холостым - во всяком случае, бездетным. И вот неожиданно в прошлом году пришло письмо из Финляндии, от незнакомых людей. "Мы, такие-то, - писали они, - в настоящее время являемся хозяевами того имения, где Вы почти что родились, и нам было бы очень приятно и лестно, если бы Вы согласились приехать к нам и отметить Ваш день рождения у нас в имении и посетить дом в Борго, в котором Вы родились". Мы нашли это приглашение очень милым и в августе поехали к ним. Дом оказался заново отделан новыми хозяевами, которые устроили в бывшем имении несколько гостиниц, разбросанных в обширном парке, и своего рода курортное учреждение с саунами, гимнастическими залами, массажными кабинетами, где отдыхающие обеспечиваются медицинским надзором. Главный дом, в котором мы пережили гражданскую войну, новые владельцы оставили за собой и постоянно живут в нем.
Эти люди приняли нас очень радушно, мы жили, конечно, у них в доме, и в один из дней они повезли нас в Борго показать, где я родился. Дом этот тоже хорошо содержится наследниками, и нам его показали вплоть до комнаты, в которой я появился на свет. Ее удалось совершенно точно определить, потому что кто-то из прислуги прежних хозяев помнил, что врач перед моим рождением посоветовал моей матери переменить комнату, так как там была неподходящая для родов кровать, и указал на другую. Так что комнату определили совершенно точно, не могло быть сомнения.
Несмотря на то, что все там было новым, неузнаваемым, эта поездка вызвала во мне целую волну воспоминаний о прошлом, о родных и близких, из которых никого уже почти нет в живых. В последнее время, после того как у нас на родине произошло столько внезапных перемен, я все чаще вспоминаю своего отца. Многое из того, что он говорил незадолго до смерти - а умер он в 1938 году - и что многим казалось ошибочным, теперь вдруг начало сбываться. В частности, он всегда повторял, что такой противоестественный режим, такая ненормальная форма социализма неминуемо должна будет кончиться внезапным, катастрофическим крушением и что не будет никакой постепенной перемены, а наступит именно внезапный конец. В те годы, когда он поднял упавшее знамя монархии, стремясь доказать, что она не анахронизм, не отжившая форма власти, не синоним косности и деспотизма, его мало кто поддержал. Жизнь доказала, что и в этом он не ошибся. Но на это ушло много лет, и для России это были годы тяжелых испытаний.
3
В Германии мы оставались недолго. Погостив всего два дня у моей тетки, принцессы Александры Гогенлоэ-Лангенбургской, мы встретились в Мюнхене с бабушкой Марией Александровной и все вместе поехали в Цюрих. Из всех моих бабушек и дедушек она единственная, кого я помню: оба дедушки умерли до моего рождения, бабушку Марию Павловну я видел только один раз, вернее, она меня видела, потому что я ее не помню, а вот о бабушке Марии Александровне у меня осталось хотя и смутное, но очень милое воспоминание. В Швейцарии меня каждое утро приводили к ней, и неизменно каждый раз у нее в комнате был спрятан для меня какой-нибудь маленький подарочек, который я должен был отыскать. И на всю жизнь у меня осталось чувство, будто я ее действительно хорошо знал, что это был близкий человек...
Весной того же 1920 года другой моей бабушке Великой Княгине Марии Павловне удалось выехать из России - морем, через Константинополь и Италию, и она поселилась на юге Франции. В начале августа мы получили известие о том, что она тяжело больна, и родители сразу же поехали к ней. 24 августа она умерла, похоронили ее в Контрексвилле. Здоровье бабушки Марии Александровны тоже ухудшилось, она все чаще была нездорова. 22 октября она скоропостижно скончалась в Кобурге. Так мои родители почти одновременно потеряли своих матерей.
В 1921 году наша семья обосновалась на юге Франции, впервые после отъезда из России мы смогли наконец-то жить в нормальных условиях, своим домом. Но мысль о трагедии, не прекращавшейся на родине, о своем долге перед ней, который ложился на родителей после мученической гибели Императора, всей его семьи, а также Великого Князя Михаила Александровича, не давала покоя. Долгое время никто не хотел верить известиям, тогда еще не проверенным, об ужасной кончине Царской семьи. Но гражданская война подошла к концу и завершилась окончательной победой красных. Белая армия, отступавшая во главе с генералом бароном Врангелем, была вынуждена покинуть пределы России. Оставшиеся в живых устроились жить за границей, в большинстве своем на Балканах и во Франции. В рядах этих военных еще жила надежда на возобновление борьбы, отец же считал, что международное положение таково, что надежда эта не имеет под собой никакой основы. Вестей из России было мало, и связь с ней была не только трудной, но и опасной. Образовавшаяся в те го-ды военная организация - Русский Обще-Воинский союз - пыталась иметь контакты с Россией. К сожалению, это вскоре кончилось печально: были похищены и бесследно исчезли генералы Кутепов и Миллер, стоявшие во главе этого Союза. Новости с родины приходили самые неутешительные. Становилось очевидным, что революция, породившая республику, которая просуществовала всего несколько месяцев, и приведшая в конечном счете к коммунизму, принесла народам России одни только страдания.
Мой отец был убежден в том, что монархия - единственная форма государственного правления, которую Россия знала с самых первых времен своего исторического существования вплоть до 1917 года, - была также единственной формой, всесторонне и полностью отвечавшей потребностям народов, ее населявших. По этой причине, исходя не из личных интересов, но повинуясь велению совести и желая только одного - избавить свою страну от страданий и бедствий, мой отец, которого предполагаемая гибель Императора, всей Его семьи и брата делала главой Императорского дома, поскольку он оказался старшим в порядке престолонаследия из оставшихся в живых членов династии, решил стать во главе борьбы за восстановление законной власти в России. Не имея точных сведений о судьбе Государя, Наследника-Цесаревича и Великого Князя Михаила Александровича, он вначале объявил себя Блюстителем престола. Целью этого акта было обеспечение существования династии в новых условиях, за рубежом, в течение непредсказуемого периода времени, сохранения ее прав и возможности в любую минуту исполнить свой долг.
Политические тенденции, превалировавшие в то время, были отнюдь не благоприятными для провозглашения монархических принципов. Последовательное падение в результате мировой войны сразу нескольких крупнейших монархий привело многих к мысли, что их эпоха подошла к концу. Среди русских эмигрантов находилось немало таких, кто, будучи в душе убежденным монархистом, считал происшедшие перемены необратимыми и с горечью смирялся с ними как с исторической неизбежностью. Мой отец, несмотря ни на что, не дал себя увлечь подобным тенденциям. Он был глубоко убежден, что только монархия сможет спасти Россию, и пытался объединить разрозненные усилия различных монархических групп, продолжавших существовать за рубежом. В этом начинании его поддержали не все сторонники монархии и даже не все члены династии. Не поддержал его, в частности, Великий Князь Николай Николаевич, который, будучи Верховным Главнокомандующим русской армии во время войны, к тому времени уже принял на себя командование всеми военными группировками русских эмигрантов, создавшихся из остатков эвакуированных частей генерала барона Врангеля. В оппозицию к моему отцу стал - и это было самым странным - Высший Монархический Совет, объявивший себя во главе всех монархических организаций за границей. Причиной этой оппозиции было то, что в среде русской эмиграции многие тогда еще верили в возможность новой интервенции, и им казалось, что Великий Князь Николай Николаевич, в качестве Верховного Главнокомандующего, имел больший авторитет для осуществления на деле подобной операции. Отец же считал, что эта интервенция, на которую возлагалось столько надежд, была иллюзией, и твердо верил в то, что со временем больше людей присоединится к его точке зрения и что патриотическое движение, которому он положил начало, будет расти и крепнуть. Впоследствии так оно и оказалось, но все же первым результатом был немедленно последовавший раскол в рядах монархистов.
Несмотря на это, отца поддержало большое количество русских монархистов, разделявших его веру в триумф легитимизма. Так было положено начало движению легитимистов, которые объединялись в различных городах в группы, работавшие в тесном контакте с моим отцом. Им противостояла значительная оппозиция, в том числе и движение непредрешенцев, занимавших выжидательную позицию и склонявшихся на сторону Великого Князя Николая Николаевича. Но с годами движение легитимистов приобретало все большее влияние.
Так прошло два года. За это время легенда, очень широко распространенная в среде русских эмигрантов, о том, что Император Николай II и его семья не были убиты, была в конце концов опровергнута. Опубликованы были результаты расследования убийства Императорской семьи, проведенного следователем Соколовым, который был назначен для проведения этого расследования адмиралом Колчаком. Сам Соколов, выехав на запад через Дальний Восток, приезжал к моим родителям и предъявил им все свои материалы, а также вещественные доказательства. У него не было ни тени сомнения в том, что Государь Император и его семья были зверски убиты. Эти доказательства не оставляли никакой надежды на то, что Царской семье удалось спастись. Из большевистских источников пришло вскоре подтверждение того, что погиб и Великий Князь Михаил Александрович - он был расстрелян в Перми. После того, как сведения о мученической кончине Императора, всей Его семьи и брата окончательно подтвердились, в 1924 году, отец решился обнародовать манифест, в котором объявлял о принятии им Императорского титула, принадлежавшего ему по праву рождения, в соответствии с российскими законами о престолонаследии. К тому же, эти два года показали, что формулировка "Блюститель Престола" оказалась недостаточно ясной и давала поводы для всякого рода нападок на моего отца. Так, например, некоторые высказывали сомнения в правах моего отца, ссылаясь, в частности, на тот факт, что его мать перешла в православную веру уже после его рождения. В одном из положений Российских Основных Законов действительно содержится требование обеспечить воспитание предполагаемых наследников престола в православной вере. Но применительно к моему отцу, его братьям и сестрам оно было соблюдено. Оно исполнялось и в тех случаях, когда супруге члена Императорской семьи разрешалось не переходить в православие. Такое, правда, бывало довольно редко.
Бабушка Мария Павловна перешла в православие после долгих лет супружества. И вот теперь этот факт, толкуя его превратно, пытались использовать недруги моего отца. Распускались также слухи о том, что перед отъездом из России он отрекся от своих прав на наследование престола, что было не только неверно, но и со-всем нелогично, поскольку в момент его отъезда из России, даже если Государь и отрекся от престола за себя и своего сына, оставался еще брат Государя, после которого шел мой отец. В тот момент последовательность наследования престола имела чрезвычайную важность (4). По крайней мере, если бы отец прежде отрекался от своих прав, такой документ существовал бы, и в своих манифестах он сослался бы на него и указал, по каким причинам он вновь их на себя принимает. Но ничего этого не было.
Члены Императорского дома в большинстве своем этот акт безоговорочно признали, хотя и не все. Не признала его вдова Императора Александра III, Императрица Мария Федоровна, мать и бабушка погибших царственных мучеников. Она так до конца и не могла смириться с мыслью о гибели своих детей и внуков, не хотела признать ужасную правду. Не приняли его также дети - некоторые дети, не все - Великого Князя Александра Михайловича. И, хотя никто из Великих Князей не оспаривал прав отца на престол, кто-то из них чисто сентиментально не хотел принять перемен (5). Отцу моему тоже трудно было решиться на этот шаг. Внешнее величие меньше всего его интересовало, да и тщеславие не было в числе его недостатков, к тому же он прекрасно знал, что именно это будет вменяться ему в вину. Как он сам писал тогда в одном из писем Великой Княгине Ксении Александровне, сестре погибшего Государя: "Ничто не может сравниться с тем, что мне предстоит теперь вынести в связи с этим актом"... Он не ошибся. Стремясь исполнить свой долг, он взвалил на свои плечи очень тяжелый крест.
Заявление моего отца о принятии на себя императорского титула было со всей серьезностью воспринято мировой прессой, рассматривавшей его как новый и очень важный фактор в грядущей битве за будущее России. В среде русских эмигрантов оно произвело сильное впечатление и дало новый импульс движению, которое он возглавил. Но одного бесспорного права на престол было мало, успех начатого дела зависел еще от политической линии, которую предстояло избрать. При верном выборе рано или поздно можно было ожидать успеха. А если бы он оказался ошибочным, никакая сила в мире не могла бы помочь его осуществлению.
Чтобы иметь ясную картину того подвига, на который шел мой отец, мы должны постараться восстановить атмосферу середины двадцатых годов. В те годы многие эмигранты из России были еще под обаянием "белой идеи", верили в победу Белого движения.
Другими словами, они все еще были убеждены в том, что Россия может быть освобождена от коммунизма путем внешнего вмешательства. Тогда еще в эмиграции сохранялись значительные силы, оставшиеся от русской регулярной армии, принимавшие участие в гражданской войне и оказавшиеся за границей. Это, конечно, длилось недолго, потому что армия, которая находится в таком положении, недолго может держаться в порядке, но таковая возможность, во всяком случае, не отвергалась. Именно поэтому группа людей, которые после случившейся трагедии надеялись на возможность восстановления монархии путем интервенции или каким-либо другим способом, возлагала большие надежды на Великого Князя Николая Николаевича, считая, что он как бывший Главнокомандующий нашими вооруженными силами имел больше шансов на популярность как внутри России, так и за ее пределами. По этой причине они и решили сделать на него ставку, полагая, что, хотя он по своей линии и был далек от престолонаследия, мог бы быть продвинут в правах в силу своего авторитета, который, по сравнению с другими членами Императорской семьи, был, конечно, самым большим. Эта политика и получила название политики "непредрешения", бывшей на деле выжидательной позицией, предполагавшей, что по мере развития ситуации в России, в случае поворота к монархии, народ выскажется за какое-то лицо (6).
Поскольку силы эмиграции были явно недостаточны для выполнения поставленной задачи, Белое движение выдвинуло идею необходимости внешней, то есть иностранной, интервенции. Что касается будущей социальной структуры в России, эти монархические круги высказывались за полную реставрацию прежнего порядка. Такая точка зрения была понятна и могла даже казаться логичной в те годы, когда ужасы революции и гражданской войны были еще свежи в памяти каждого. И все же мой отец предпочел другую политику, гораздо более трудную. Он пошел против настроения большинства эмигрантов, что неминуемо привело к тому, что большинство это оказалось в оппозиции.
Но он считал, что пойти по пути полной реставрации - значит разрушить все шансы на успех в самой России. Мой отец, привыкший руководствоваться здравым смыслом и личным опытом, был убежден, что настроения, которые превалируют в России, имеют большее значение, нежели настроения эмигрантов. Он отбросил идею интервенции, считая, что русский император не должен прибегать к помощи иностранных штыков для того, чтобы вернуть себе трон, хотя бы и принадлежащий ему по закону. Реставрацию прежних порядков он считал химерой.
Мои родители сходились во мнении, что наша первая и важнейшая задача состояла в том, чтобы разъяснить всему миру, что восстановление законной монархии в России не есть синоним реакции и что монархия, напротив, самая совершенная и гибкая из всех мыслимых форм государственного строя. Отца всегда задевало мнение, часто высказываемое тогда многими западными учеными мужами, что восстановление монархии в России неминуемо приведет к некой архаической форме деспотизма - форме государственного устройства, никогда не существовавшей в российском государстве, и от которой, как жизнь показала некоторое время спустя, нисколько не застрахована республика.
4
В 1924 году мы жили в Кобурге, на вилле "Эдинбург". Эта вилла принадлежала моим родителям - они получили ее в подарок от бабушки, Великой Княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской. Здесь они провели первые годы после свадьбы, когда еще им нельзя было вернуться в Россию. Все здесь напоминало им лучшую пору их жизни, тем более, что внутренняя обстановка виллы совершенно не изменилась. Каждый предмет стоял на том же самом месте, что и почти двадцать лет назад.
Кобург был маленьким городом с живописными окрестностями. Как и любой другой "резиденц-штадт" в Германии, он обладал всем, чему полагается быть в больших городах, только в миниатюре: здесь был театр, маленькая опера, хорошие рестораны, магазины и прочее. Весь он был чистенький, ухоженный, уютный - и немного скучный, как и полагается провинциальному городу. Отец находил его довольно приятным в малых дозах, но скучал, когда приходилось подолгу в нем засиживаться. Вдобавок мы вели в Кобурге очень замкнутую жизнь. Знакомых там было мало, всего две семьи: герцога Карла Саксен-Кобург-Готского (7) и царя Фердинанда Болгарского.
Отец страстно увлекался автомобилями с самого начала их появления. Он был, пожалуй, одним из самых первых и самых опытных автомобилистов своего времени и успел исколесить всю Западную Европу вместе с моей матерью - больше всего они путешествовали по Франции и Германии. В те наши кобургские годы он вернулся к своему любимому времяпрепровождению, и редко выдавался день, когда он не выезжал на прогулку по красивейшим городским окрестностям. Каждое утро он проводил за работой со своими помощниками, и иногда даже воскресные утра были посвящены работе. Работа эта состояла в основном в поддержании связей с соотечественниками. В те годы в эмиграции возникло множество организаций, в том числе и военных, самой различной ориентации. Например, Обще-Воинский союз состоял из уцелевших частей Белой Армии, то есть, в сущности, из военных, в большинстве своем офицеров, уже не императорской армии, а Временного правительства. В противовес этому некоторые офицеры, которые участвовали в Белом движении, но хотели подчеркнуть, что они до конца были в распоряжении Императорской армии и остались верны присяге Императору, а после кончины Императора - Главе семьи, которым оказался мой отец, - образовали Союз Императорских Армии и Флота. Возникали также и другие военные организации, которые были сами по себе и не зависели от этого Союза, например организация бывших офицеров флота, которые просили покровительства моего отца, потому что им хотелось иметь во главе члена Императорской семьи, в прошлом тоже флотского офицера. Или, например, другая организация, которая была монархической и какое-то время играла довольно важную роль в жизни эмиграции - Союз Младороссов. И множество других, более мелких, которые особого значения не имели, во всяком случае на поверхности общественной жизни в эмиграции мало проявлялись. Конечно, мой отец поддерживал связи с теми из них, которые были наиболее активными, он всегда был в контакте с нашими эмигрантами во всем мире, переписка у него была обширная (правда, у меня теперь еще больше) - и в этом и заключалась его основная работа: попечение о русских за границей. Ну и, конечно, время от времени он публиковал обращения, или, по старой терминологии, манифесты, в которых он обращался ко всем россиянам вне страны и в Советском Союзе. И эта деятельность также была направлена на то, чтобы люди не забывали, что существует Императорская семья, которая стоит как бы на посту, выжидая время, когда она сможет снова включиться в работу на благо своей родины. Так же как и я сейчас остаюсь на этом посту в надежде, что когда-нибудь мы сможем принести нашей родине какую-то пользу.
Помощниками моего отца в разное время были разные люди, поскольку держать при себе даже небольшое количество сотрудников не представлялось возможным, да и было не по средствам, так что при моем отце фактически находились один-два человека, которые работа-ли в его канцелярии, иногда сменяя друг друга. Это были люди, обладавшие достаточным государственным опытом, которые тогда еще были нередки в эмиграции, и они составляли своего рода совет при моем отце, время от времени собираясь все вместе, чтобы быть готовы ми на случай какого-либо действия - не столько военного, сколько политического. Тогда еще была надежда на то, что режим, установившийся в России, не так тверд, как оказалось в действительности. К нам приезжали политики из разных стран, приезжали люди с донесениями о внутренней ситуации в России, о положении русских эмигрантов в странах, где они жили и работали, о своих усилиях создать единый фронт. Я тогда был еще совсем маленьким мальчиком, но все приезжавшие к нам были мне обязательно представлены, и я должен был без конца с ними беседовать. Вся наша семья, во всяком случае с того момента, как отец начал свою политическую деятельность, жила в мире политических событий, вокруг которых вращались почти все разговоры. Я часто видел выражение тревоги и печали на лицах родителей, и я знал, что это означает. Эта тревога всегда была вызвана очередными событиями, происшедшими в России.
Осенью 1924 года мама получила приглашение посетить Соединенные Штаты Америки и провела там около месяца (8). Она была принята очень радушно, и в ее честь было организовано множество приемов. Моральный успех этого визита был очень значительным, что и не удивительно, поскольку женщина она была исключительная во всех смыслах этого слова. Ее блестящий интеллект, красота, обаяние и вдобавок большое знание жизни влекли к ней сердца всех, кто с ней встречался. Принимая это приглашение, мама имела в виду одну цель: грядущий успех дела моего отца в Америке. Она считала очень важным установление связей с государственными деятелями, заинтересованными в русском вопросе. Отец очень волновался за нее то время и с нетерпением ждал от нее известий.
Все эти годы после Финляндии мы жили то в Кобурге, то на Лазурном берегу, но летом там было слишком жарко и довольно шумно, суетно. Вдруг, совершенно случайно, кто-то из знакомых порекомендовал моим ро дителям Сен-Бриак. Они поехали в Бретань, им там сразу понравилось, и они сняли дом на лето. По сравнению с Лазурным берегом, южным курортом, Сен-Бриак показался им какой-то тихой пристанью. Мы стали проводить там каждое лето, и в 1925 году родители решили окончательно там обосноваться и купили дом, который сохранился у нас до сих пор и увидел уже четвертое поколение нашей семьи. Это был настоящий традиционный бретонский дом. Его пришлось долго благоустраивать, потому что там не было даже водопровода, и только спустя два года мы смогли окончательно туда переехать. Постепенно он сделался нашим родовым гнездом. С ним связана почти вся моя жизнь, да и наши документы, паспорта беженцев, выданы местной мэрией.
Когда мы переехали в этот дом, с нами уже не было моей старшей сестры Марии, она вышла замуж в ноябре 1925 года за наследного принца Карла Лейнингенского (9). Они венчались в Кобурге. Сначала было венчание по православному обряду в нашей семейной часовне на вилле "Эдинбург". Внутреннее убранство этой часовни было подарено моей бабушке, Великой Княгине Марии Александровне, ее отцом, Императором Александром II. Это была его походная часовня во время войны с Турцией в 1878 году. Затем в городской кирхе состоялась церемония по лютеранскому обряду. На свадьбу съехалось много родных и знакомых, и праздник длился несколько дней. Родители были очень счастливы.
В Сен-Бриаке мама с увлечением занялась устройством нашего нового жилища, отделкой и меблировкой комнат, а также работой в саду. К цветам у нее была страсть, и она была опытным садоводом. Она также много времени посвящала живописи, и работы ее были вполне профессиональными. Только зимой 1927/28 года мы окончательно переехали в Сен-Бриак. Мы перевезли туда мебель из парижской квартиры, которую родители сохранили еще с довоенных времен, что придавало вещам дополнительную сентиментальную ценность. Всем нам нравилась эта тихая сельская жизнь. Сен-Бриак был в ту пору - да и теперь остался - небольшим рыбацким поселком. Там жили в основном мелкие рыбаки, теперь все больше отставные моряки с торговых судов и довольно много людей творческих профессий: художники, скульпторы. До сих пор он остается типичной бретонской деревней, населенной спокойными, дружелюбными людьми, не превратившись, слава Богу, в крупный город, как это случилось со многими живописными уголками на побережье Средиземного моря, которые после войны так изменил и испортил туризм. Эта тихая жизнь настолько привлекла моих родителей, что они без сожаления оставили средиземноморское побережье, хотя тоже любили его и, особенно в молодости, часто туда ездили. Но светская жизнь всегда их немного утомляла, и они предпочли Сен-Бриак. Здесь, кроме французов, жили англичане, целая колония, несколько американских семей, со многими у нас сложились дружеские отношения. И атмосфера была очень приятная, все жили как-то ровно, не чувствовалось разницы между состоятельными и небогатыми людьми, по крайней мере никто здесь не кичился своим богатством, как бывало на Лазурном берегу. Любимым спортом моего отца был гольф, и теперь он мог посвящать свободное время этой игре, доставлявшей ему большое удовольствие и, вдобавок, полезной для его здоровья.
Семью нашу в Сен-Бриаке полюбили, у нас сложились очень хорошие отношения с жителями, самыми простыми людьми. Это проявилось и после войны, когда я вернулся туда после долгого отсутствия. Моя мать старалась участвовать в жизни деревни, она много занималась благотворительной деятельностью вместе с сельским священником - кюре, и это, конечно, располагало к ней людей, доставляло им радость и своего рода гордость тем, что они имели в своей среде такую семью, как наша. Подтверждением этого доброго отношения явилось то, что, когда мне пришлось во время войны покинуть наш дом, этот священник и некоторые другие жители, совсем даже и не друзья, а едва знакомые люди, разобрали по своим домам все, что было, по их мнению, самое ценное, и сохранили эти вещи до моего возвращения.
Где бы мы ни были, Россия всегда как бы неотступно следовала за нами, и частица души каждого из нас была там. Мы были воспитаны в постоянном чувстве долга перед родиной и так же, как и родители, пристально следили за всем, что происходило в России. Хотя и трудно было следить за событиями, но, конечно, происшествия такого масштаба скрыть совершенно было невозможно, поэтому мы всё знали. Быть может, каких-то деталей не хватало, но обо всем ужасе и тяжести положения мы были совершенно точно осведомлены. У нас всегда была надежда на то, что это скоро кончится. Возможность конца и тогда уже была, в общем-то, предвидима, потому что уже ясно было видно, что такая форма, в которой развивалась эта политическая структура, была в основе своей совершенно нежизнеспособной и приводила только к несчастью народа, к страшно тяжелым испытаниям, и никаких действительно положительных результатов не достигла, кроме, может быть, военной мощи, которая помогла впоследствии победить гитлеровскую Германию. Русскому народу, в обмен на немыслимые лишения, она мало что дала. Все случившееся было столь ненормальным, что в двадцатые годы у многих еще было такое чувство, что страна сможет через какое-то короткое время вернуться к нормальной жизни. Но постепенно, по мере того как развивался большевизм в России, все более и более становилось ясно, что такие надежды если не совершенно утрачивались, то, во всяком случае, становились все менее вероятными. Уже было видно, что скорых перемен в России к лучшему в ближайшем времени ожидать не приходится - стало ясно, что они не произойдут со дня на день, - но никто тогда не думал, что это продлится семьдесят пять лет. У моего отца всегда была надежда, что жизнь в России может и должна перемениться. Пророческие слова отца об уродливой форме социализма, которая была насильственно введена в России и неминуемо должна прийти к катастрофическому концу, со всей отчетливостью вспомнились мне, когда я увидел, что произошло сейчас в Советском Союзе. Это был тот внезапный развал, который предсказывал мой отец и который мало кто мог предвидеть как раз в тот момент, когда он произошел, в том числе и я сам. Я всегда верил в то, что все это кончится, но имел большие сомнения в том, что я когда-нибудь этот конец увижу. Так что для меня тогда это было полной неожиданностью.
Главной заботой родителей было, чтобы мы не утратили своей "русскости". Об этом заботился не только мой отец, но и мать. Именно она, когда встал вопрос о моей учебе, предпочла не отдавать меня в английский колледж, и я получил домашнее русское воспитание. Со мной занималась учительница, которая раньше учила моих сестер. Должен сказать, что для нас было исключительным счастьем то, что она попала к нам. А было это совершенно случайно. Когда родители в 1917 году оказались в Финляндии, туда же приехали одни их большие друзья с детьми школьного возраста, с которыми занималась эта учительница - не гувернантка, а профессиональная преподавательница, которую они вывезли из России. Было это очень кстати, потому что посещать какое-либо учебное заведение в той ситуации было невозможно. Когда подошел 1920 год, эти дети закончили учебу, учительница была им больше не нужна. Тогда она и начала заниматься с моими сестрами. С тех пор она всегда была при нас, выехала вместе с нами из Финляндии и оставалась со мной до 1944 года, когда война нас разлучила. И ей я всю жизнь останусь бесконечно благодарен за то, что она, во-первых, дала мне знание русского языка, сделала это знание исключительно глубоким и серьезным - мне кажется, что я владею этим языком достаточно хорошо, - а кроме того, она была, чего я никогда не забуду, человеком глубоко религиозным, так что я мог одновременно проходить с ней и Закон Божий, и она привила мне серьезное отношение к религии и чувство реальности этой религии. Она происходила, очевидно, из семьи каких-то немецких эмигрантов, которые поселились в России - она сама не знала когда, никакой генеалогии в ее семье не было. Не помню, чем занимался ее отец, но работал он на какой-то простой, хотя и интеллигентной работе, - а она была очень умной, глубоко интеллигентной и прекрасно образованной женщиной. Фамилия ее была немецкая - Иоганнсон, но тем не менее она почему-то к немцам никакой приязни не питала, скорее даже наоборот, была настроена антинемецки, что было очень курьезно. Это всегда было заметно по ее высказываниям, когда мы бывали в Германии. Она была стопроцентной русской.
День у нас в Сен-Бриаке начинался не рано, но и не поздно. В половине девятого мы завтракали, а в девять часов у меня был первый урок. Уроки заканчивались в половине первого, потом был обед, после обеда опять занятия и, в половине пятого, чай. Мы часто ходили гулять с моей сестрой Кирой, с которой у нас всегда была совершенно безоблачная дружба, может быть оттого, что отношение сестер ко мне всегда было отношением старших к младшему. С годами, конечно, разница в возрасте чувствовалась все меньше. Летом мы ходили вместе купаться. Правда, вода в Сен-Бриаке холодная, редко доходит до 18 градусов, все больше 15-16, но это теперь чувствуется, а в молодости было все равно. Там очень заметны приливы и отливы, и, хотя берег гранитный, но пляжи чудные, песчаные, и во время отливов нам очень нравилось ходить по их твердому, крепкому песку. Наша старшая сестра Мария часто приезжала к нам со своим мужем. С ней у нас тоже были прекрасные отношения, я очень любил ее, и она меня любила, но она вышла замуж, когда мне было всего восемь лет, с Кирой же прошли мои детство и юность, и она была мне в то время ближе. Она хорошо плавала, играла в гольф и в теннис, была очень красивая, стройная, и, когда я подрос, мне нравилось ее всюду сопровождать, и мы много времени проводили вместе.
5
13 октября 1928 года скончалась Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, и отец поехал в Копенгаген на похороны. Он всегда относился с большой любовью и уважением к покойной Императрице и был глубоко опечален ее кончиной. То, что она в свое время весьма сдержанно отнеслась к акту моего отца о возложении им на себя императорского титула, совершенно не означало, что она не признавала за ним его неоспоримых прав, она просто не хотела поверить в смерть своих детей и внуков, и эти чувства матери, вопреки всем доказательствам хранившей надежду, были ему вполне понятны (10). В Копенгагене мой отец был гостем короля Дании и принят был со всеми почестями, которые подобали Главе Русского Императорского Дома. Почти все члены Императорской семьи прибыли на эти похороны, с некоторыми из них отец встретился впервые после своего отъезда из России. В эмиграции они разъехались по разным странам. Одна из сестер Императора, Великая Княгиня Ксения Александровна, поселилась со своим мужем, Великим Кня зем Александром Михайловичем, и детьми в Англии, где король предоставил им часть своего дворца. Другая сестра, Великая Княгиня Ольга Александровна, жила в Дании, подле своей матери. Великий Князь Николай Николаевич жил во Франции, а Великий Князь Дмитрий Павлович жил то во Франции, то в Америке, то в Швейцарии.
Будучи коронованной Императрицей, Мария Федоровна была для многих в эмиграции самым высоким авторитетом в Императорской семье, и с ее смертью таким авторитетом для них становился мой отец как Глава семьи. К тому же несколько месяцев спустя, в январе 1929 года, скончался также Великий Князь Николай Николаевич - событие огромного значения для русской эмиграции, поскольку многие военные организации лишились в его лице своего лидера. Правда, в последние годы жизни авторитет его пошел на убыль, и из-за продолжительной болезни он отошел от общественных дел. С моим отцом они не общались и в эмиграции ни разу не встречались. Я не знаю особых деталей насчет личных отношений отца с Великим Князем Николаем Николаевичем, но единственное, что я определенно знаю, это то, что мой отец относился совершенно отрицательно к его деятельности, а особенно к акции самого Николая Николаевича, когда он просил Государя отречься от престола. Мой отец считал, что это было неправильно, что член династии, к тому же самый старший по возрасту, не должен был просить своего собственного племянника об отречении в такой трудный момент, когда государство особенно нуждалось в Главе, и Император должен был быть поддержан всеми членами семьи. К сожалению, этого не произошло. Тем не менее, отец признавал военные заслуги Великого Князя перед страной. Отец неоднократно пытался наладить отношения с Ве-ликим Князем Николаем Николаевичем, но всегда безуспешно. Со смертью Великого Князя возглавляемые им военные организации остались без вождя, и представлялось очевидным, что теперь все они должны были признать авторитет моего отца. Но на деле вышло не совсем так (11). Некоторые из них заняли выжидательную позицию - что, впрочем, нисколько не повредило делу легитимизма, которое с годами только набирало силу. Группы легитимистов существовали во всех странах, где обосновались русские эмигранты. Секретарь отца поддерживал с ними контакты и был всегда прекрасно информирован обо всем, что происходило в кругах эмиграции. Движение легитимистов приобретало все большее значение по мере того, как сторонники Белой идеи сходили с политической сцены. Глубокая правота политических взглядов моего отца неизменно каждый раз подтверждалась развитием событий, и это обеспечивало успех его дела.
Весной 1929 года он перевел свою канцелярию в Сен-Бриак и снова, как в Кобурге, стал проводить каждое утро за работой. Его секретарь, или начальник канцелярии, который в одном лице представлял собой весь кабинет отца, каждое утро приходил к нему с докладом. Секретарем этим был адмирал Георгий Карлович Граф (12), оказавшийся для моего отца чрезвычайно удобным человеком, потому что он считался финским подданным, то есть имел финский паспорт и не был на положении эмигранта. Он легко мог получить любую визу, и его можно было в случае надобности посылать в разные страны. Отец очень любил его. Георгий Карлович был человеком семейным, у него была очень милая жена и сын Володя, ставший товарищем моего детства и юности. Мы были очень дружны и почти все свободное время проводили вместе - конечно, у нас были и другие друзья: французы, англичане. Учился он тоже дома. Все то время, пока он жил со своими родителями в Сен-Бриаке, ему давала уроки моя учительница, Евгения Александровна Иоганнсон. Мы вместе играли, катались на велосипедах, бродили по окрестностям с моим другим преподавателем, немцем, большим любителем древ-ностей, который, вооружившись путеводителем, увлекал нас на поиски развалин времен друидов, которыми славится Бретань. Этот Володя, Владимир Георгиевич, до сих пор, слава Богу, жив и живет в США, он был инженером-электриком, теперь, конечно, на пенсии.
Ко времени нашего переезда Франция уже признала коммунистическое правительство России - так же, как и другие страны, одни немного раньше, другие чуть позже, довольно быстро его признали. Поскольку это правительство сформировалось и пришло к власти, им пришлось его признать как действительно функционирующее правительство, нравилось оно им или не нравилось. Но, с другой стороны, - и это фактор очень важный - другие державы всегда боялись сильной России, и, в первую очередь, Англия. Во всяком случае, главную роль сыграл тот факт, что все эти страны, как в Европе, так и за океаном (Северная Америка тогда уже подымалась, и во время мировой войны 1914 года впервые приняла участие в интернациональной политике), - все эти страны были скорее довольны, то есть определенно довольны, видя крушение такой сильной страны, как Россия, и, несомненно, надеялись, что на достаточно долгое время эта страна будет ослаблена и не в состоянии будет играть какую-либо роль на международной арене. И в этом причина того, что западные страны фактически симпатизировали коммунистическому режиму. Или, по крайней мере, делали вид, что его поддерживают, - и поддерживали в действительности. Помощь коммунизму была оказана в самом начале и немецким главным командованием, и политиками, потому что, хотя Германия и была империей, но по сути - конституционная монархия, и император не был свободен в своих действиях. Результатом всего этого было то, что после крушения России крупные западные державы в большинстве своем очень быстро признали тот режим, который установился у нас на родине.
Но отношение королевских семей к моим родителям оставалось неизменным, поскольку все иностранные дворы знали совершенно определенно, что мой отец является Главой династии после исчезновения Государя, его брата и наследника-цесаревича. Одно дело - политическая необходимость, то есть необходимость времени, а другое - отношение по законам, которые признавались всеми другими иностранными родственниками и их дворами и которые не перестали быть законами в результате революционного захвата власти. Республиканская же Франция, которая была нашей союзницей в вой не, всегда - и не только нам лично, но и всем другим русским беженцам, которые хотели приехать туда, - давала свободный въезд и разрешение на жительство, и потом - разрешение на работу. Отношение к нам со стороны французских властей было вполне корректным. Поскольку они признали советское правительство, отношение это не могло быть официальным, но оно было официозным, они, несомненно, признавали моих родителей как Императорскую фамилию. В государственных учреждениях, которые занимаются международными отношениями, известно правило относительно королевских семей, которые лишаются своего трона: своего положения в смысле династическом они не теряют, поэтому французы обходились с нами всегда очень предупредительно. В те годы, когда участились покушения - например, похищение генералов Кутепова и Миллера, возглавлявших Общевоинский союз, состоявший из остатков частей Белой армии,- французское правительство приняло некоторые меры предосторожности, и вокруг нас в Сен-Бриаке, или когда мы ездили в Париж, постоянно была охрана, старавшаяся казаться незаметной. Скорее всего, эти меры предосторожности принимались на всякий случай. Ощущения какой-то серьезной, конкретной угрозы мы все-таки не испытывали. Очевидно, так оно и было. К тому же покушение на нас было бы для советского правительства невыгодным, оно показало бы себя со стороны неблагоприятной перед западными странами, с которыми оно было в дипломатических отношениях.
Оба брата моего отца жили, как и мы, во Франции. С одним из них, Великим Князем Андреем Владимировичем, мы очень часто виделись. Он был женат на знаменитой балерине, Кшесинской, для которой он, прося разрешения моего отца на брак, получил титул княгини Красинской. Такая система существовала еще в царствование Императора Николая II: члены Императорской семьи, которые вступали в неравнородные браки, хотя и с разрешения Главы семьи, получали для своих жен и предполагаемого потомства основной титул светлейших князей Романовских, с прибавлением другой фамилии, которую они могли выбрать. Те же, кто не просил разрешения на брак, оставались просто господами Романовыми. Таким образом, сын моего дяди Владимира Андреевича назывался уже князем Романовским-Красинским. С моими родителями они были очень дружны, и хотя мой отец, может быть, и сожалел о том, что этот брак был неравнородным, но поведение жены моего дяди всегда было очень корректным, тактичным. В эмиграции она продолжала заниматься своей профессией, балетом, вначале сама выступала, затем открыла балетную школу, и, несмотря на свою известность, была она человеком очень скромным. С их сыном Владимиром (Вовой, как его называли в семье) мы были дружны, и я его очень любил.
С другим моим дядей, Великим Князем Борисом Владимировичем, родители виделись гораздо реже. Отчуждение между братьями возникло из-за брака Бориса Владимировича с особой, которая считалась моими родителями, из соображений династических и просто семейных, лицом неприемлемым для члена Императорской фамилии (13). Борис Владимирович и не просил разрешения на этот брак, я думаю, из-за того, что понимал, что моему отцу придется ему отказать. Поэтому в результате отец почти не виделся со своим братом, хотя тоже очень его любил.
Еще один мой дядя, самый младший, Великий Князь Дмитрий Павлович, был также дружен с моими родителями, и я его очень любил. В молодости он, к сожалению, оказался замешан в убийстве Распутина. Правда, к тому времени эта история была забыта, в семье старались о ней не вспоминать, по крайней мере при Дмитрии Павловиче. Мои родители это убийство всегда осуждали, и, очевидно, по этой причине мы никогда не встречались с князем Ф. Ф. Юсуповым, женатым на дочери Великой Княгини Ксении Александровны, Ирине. Ксения Александровна, сестра Государя, жила в Англии, где король предоставил ей часть дворца, и отношения у нас были вполне родственные и с ней, и с ее мужем, Великим Князем Александром Михайловичем. Мы несколько раз навещали ее, когда бывали в Англии, но с ее дочерью и ее мужем, которые жили во Франции, ни разу не виделись. Мои родители не оправдывали и не переоценивали Распутина, они считали, что в нем было две стороны, одна положительная, другая отрицательная. Положительным было то, что он действительно помогал и временно, во всяком случае, приостанавливал внутренние кровотечения, которые были у Наследника-Цесаревича вследствие его гемофилии. Это, конечно, было очень ценно для Государя и Государыни: ведь единственный их сын был болен такой тяжелой и тогда еще совершенно неизлечимой болезнью. Очень легко можно понять, как они дрожали над ним и какой трагедией это было в их жизни. То, что Распутин имел дар приостанавливать кровотечения, было совершенно точно.
Другая его сторона, отрицательная, проявилась после того, как он попал в столицу и начал встречаться со множеством людей. Был он, как известно, распутник, что очень подходило к его фамилии, и этой его стороной воспользовались те элементы, которые уже тогда старались подточить всю структуру нашей империи, монархию. Но его убийство, как и всякое убийство, являлось преступлением. И я, как и мои родители, совершенно убежден, что это было преступление двойное: убивая Распутина, его убийцы тем самым, в очень большой степени, приговаривали к погибели и самого Наследника, потому что в то время ни в России, ни за границей не было докторов, которые могли бы ему помочь (у России, которая была великой державой, одной из самых мощных в мире, имелись достаточные возможности, чтобы обо всем этом узнать). Распутин был единственным в то время человеком, который мог помочь и действительно помогал Наследнику, когда у него происходили кровотечения. А что касается разговоров о том, что он якобы влиял на международную политику, то они не имели под собой никакой основы. И по своему происхождению, и по своему существу Григорий был человеком совершенно простым, и единственное, что он, может быть, мог, так это просить Государя или Государыню за какого-нибудь человека из тех, кто обращался к нему, чтобы улучшить свое положение, но влиять на международную политику он, конечно, не мог. У него был достаточно здоровый, можно сказать мужицкий, ум, смекалка, и он ясно видел и понимал, что война может оказаться губительной для России. Тут можно только отметить, что он правильно оценил положение, и то, что он был против войны, абсолютно не значит, что он был немецким агентом, как иногда старались его представить, распространяя слухи, что он имел какие-то контакты с кругами, которые работали на пользу немцев. Это совершенный абсурд.
Поскольку Великий Князь Дмитрий Павлович принимал участие в убийстве Распутина, ему пришлось тогда выехать за границу. Он послан был в Персию, и революция застала его вдали от родины, что, может быть, спасло ему жизнь, потому что не только семья Государя Императора, но и многие другие члены династии, всего восемнадцать человек, были зверски убиты большевиками. Он еще некоторое время воевал, пока можно было воевать, поступив в английскую армию, после войны жил во Франции, затем встретился с одной американкой, из хорошей семьи, ставшей его женой, и поселился в Америке (14). Для своей супруги он получил от моего отца титул княгини Ильинской, по названию имения - Ильинское, которое было у его семьи в России и которое он очень любил, и сын их до сих пор живет в США под фамилией Романовский-Ильинский.
6
Из событий, происшедших во время нашей жизни в Сен-Бриаке, несколько мне запомнились особенно. Первым была серебряная свадьба моих родителей, 3 октября 1930 года. Это было большое событие и для них, и для нас с сестрами. Вся их совместная жизнь была основана на взаимной любви, и они прожили эту жизнь достойно, невзирая на тяжелые обстоятельства, выпавшие на их долю. В этом смысле наша семья была образцовой: в ней все любили друг друга. И эта любовь искупала все трудности, которые пришлось испытать за годы изгнания. Мы гордились нашими родителями, и празднование их серебряной свадьбы имело для нас особое значение. В тот день отовсюду приходили поздравления и подарки, приехала моя тетя Александра, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, и вечером был устроен большой ужин для друзей и знакомых. Через неделю же прибыли из Парижа с визитом представители различных монархических организаций, что послужило поводом для еще одного праздника.
Вскоре после этого отец совершил поездку по Италии, затем отправился в плавание по Средиземному морю и посетил Ливан, Палестину, Египет, Грецию и Дубровник, и везде, где были русские колонии, ему был оказан самый теплый прием. Наиболее сильным впечатлением было для него паломничество в Святую Землю, в Иерусалим. 30 августа 1933 года я достиг возраста династического совершеннолетия: мне исполнилось шестнадцать лет. По этому случаю отец опубликовал манифест, в котором обращался ко всем народам России с такими словами: "В торжественный для Нас день совершеннолетия наследника Нашего, Мы обращаемся мыслью к великой семье народа Русского. Безмерны страдания, павшие на Русскую Землю. Железом и кровью, голодом и холодом, рабством и разорением управляется Русь. Святыни поруганы, храмы осквернены и разрушены, семья, вера, самое имя русское уничтожаются с ненавистью и беспощадной жестокостью.
Ныне подтверждаем, что Мы, пока Всевышнему будет угодно продлить дни наши, будем продолжать неустанно трудиться для спасения и счастья страждущей России. В трудах этих великою отрадою служит возлюбленный Сын Наш и Наследник Великий Князь Владимир Кириллович, и Мы призываем всех русских людей, верных исконным русским заветам, вознести горячие моления к Богу Вседержителю о здравии и благоденствии Наследника Нашего. Да ниспошлет Ему Промысел Господний неиссякаемых сил на самоотверженное служение великой земле Русской и всех населяющих ее народов, по примеру венценосных Предков, под Державным водительством которых росло, крепло и развивалось великое Государство Российское".
В тот день до меня со всей ясностью и полнотой дошло то, что на меня после смерти моего отца ляжет долг служения нашему Отечеству. По традиции и по законам нашей семьи, Наследник приносит перед Евангелием обещание и клянется, во-первых, в верности своему родителю, который при нормальном положении является Государем Императором, во-вторых, клянется перед Богом исполнять свои обязанности, которые ему предписаны самим законом Российской империи. Только тогда я с полной силой осознал, в чем будет заключаться моя роль и мои обязанности. И с тех пор я старался по мере моих возможностей этот долг исполнять. Это был день огромного значения в моей жизни, когда я понял, что кончилось мое детство, которое было совершенно безоблачным, кроме, конечно, экзаменов, которые каждый школьник переживает обыкновенно без всякого удовольствия. В тот момент я почувствовал, что стал уже взрослым человеком и что вся тяжесть и вся серьезная сторона жизни со всей неотвратимостью встают передо мной. Отец также направил циркулярное письмо всем королевским домам с сообщением о достижении мной династического совершеннолетия. Мои дяди, Великие Князья Андрей Владимирович и Дмитрий Павлович, а также несколько представителей от монархических организаций прибыли для участия в церемонии, во время которой я принес присягу. После церемонии дядя Дмитрий Павлович дал в мою честь банкет и преподнес мне редкий тогда еще подарок: мотоцикл. Удивляюсь, как позволили мои родители, впрочем, с их стороны это было доказательством того, что они доверяли моему благоразумию, и действительно, я всегда потом ездил очень аккуратно, сорвиголовой я не был. Нашлось у меня двое товарищей, у которых тоже были мотоциклы, игрушка в те годы сравнительно дорогая, и мы втроем или вчетвером совершали экскурсии по окрестностям.
Следующее событие в моей жизни, которое произвело на меня большое впечатление, случилось год спустя, 26 ноября 1934 года, когда мои родители, сестра Кира и я были приглашены королем и королевой Англии присутствовать на бракосочетании моей двоюродной сестры, принцессы Марины Греческой, с герцогом Кентским. Это был первый визит моего отца в Англию со времен войны и революции. Мама же изредка ездила в Лондон, и эта поездка ее очень обрадовала: она была британской принцессой по рождению, довольно близкой родственницей короля, и в Англии у нее было много друзей. Мы остановились в Бэкингемском дворце, куда съехались на свадьбу многочисленные родственники и знакомые. Отец и мать их всех, конечно, знали, но я впервые в жизни присутствовал на таком собрании клана и с большинством прибывших был незнаком.
Вначале был большой прием во дворце, куда был также приглашен дипломатический корпус. Среди дипломатов был и господин Майский, советский посол в Великобритании. Впервые мой отец лицом к лицу столкнулся с представителем советской власти. Они не сказали друг другу ни слова. Я никогда прежде не присутствовал на дворцовой ассамблее такого уровня, и впечатление от нее у меня было поистине огромным. После приема я был представлен моими родителями королю Георгу Пятому, который мне очень понравился. Было что-то чрезвычайно привлекательное в манерах старого короля.
Сам прием показался мне утомительным, потому что все время приходилось стоять, но я обошел залы дворца, с большим интересом рассматривая приглашенных. Я был представлен такому количеству людей, что не смог всех запомнить. Кроме приема было несколько семейных обедов, и количество приглашенных на каждом из них было настолько большим, что они мало походили на что-либо семейное. На одном из них мы насчитали 74 человека. Эта многосемейность англичан долго служила у нас поводом для веселых шуток.
Когда я пришел посмотреть свадебные подарки, помню, что меня поразило огромное количество даров от простого народа, замечательное свидетельство любви, которой пользовалась королевская семья в Англии. Большой сюрприз ожидал моего отца, когда он тоже пришел посмотреть подарки. В тот момент в зале, где они были выставлены, находилось несколько пожилых леди, оказавшихся нянями царственных гостей. Каково же было удивление моего отца, когда он узнал в одной из них свою собственную няню, мисс Крофтс. Она была очень счастлива встретить его, и отцу доставило большую радость говорить с ней, вспоминая свои детские годы в России.
Венчание состоялось 29 ноября в Вестминстерском аббатстве. Моя сестра Кира была подружкой невесты, а сам я был дружкой на православном венчании в дворцовой часовне. После свадьбы мы провели несколько дней с семьей лорда Ховарда Вальденского. Это приглашение с большим удовольствием было принято моими родителями, которым лорд очень нравился. После пребывания в его гостеприимном доме мы были приглашены к Асторам. Лорд Астор очень любезно взял на себя инициативу показать моему отцу и мне все, что обязательно нужно было повидать в Лондоне, и в шестидневный срок показал нам Тауэр, электростанцию, типографию "Таймса", аэродром в Ганворте, где я поднимался в воздух на аэрогире, аэродром Биллин Хилл, Британский музей, зоопарк, аквариум и Вестминстерское аббатство. В один из этих дней посольством Германии был дан завтрак в нашу честь.
18 декабря наша семья покинула Лондон. Мы уезжали с самыми хорошими впечатлениями от того радушного приема, который был нам оказан и королевской семьей, и лондонским обществом. Мне тогда особенно понравился этот праздник, потому что в моей жизни все это было впервые, ведь наше существование в изгнании не имело ничего общего с придворной жизнью - и, забегая вперед, могу сказать, что это было в первый и последний раз, потому что во все последующие годы мне ни разу не довелось присутствовать на таком большом торжестве. Исключением была только свадьба испанского Наследника Хуана Карлоса. В основном мы получали приглашения от близких родственников. Не знаю, было ли это случайностью, во всяком случае мы всегда чувствовали, да и нам давали понять, в дни каких-либо юбилеев, свадеб, в Англии или в других странах, что предпочтительнее было бы, чтобы мы, то есть я, не присутствовали. Я помню конкретные случаи, например свадьбу Наследного Принца Кентского, на которой мы не смогли побывать. Это особенно проявилось после войны, и именно по отношению ко мне. В случае какой-либо свадьбы или похорон по тем слухам, которые до меня доходили, я уже знал, что приглашения все равно не будет. В последний раз это было, когда умер человек, которого я очень любил и уважал, хотя мы, к сожалению, редко встречались - это был лорд Модибатенский (15), игравший довольно большую роль в международной политике - он был последним вице-королем Индии, это был очень хороший советник королевы и принца Уэльского, выдающийся человек. Как раз незадолго до его гибели мы с Великой Княгиней гостили у него - он очень любил все русское, мы видели в его доме множество картин русских художников. И мне очень хотелось быть на его похоронах, но даже и тут официального приглашения мы не получили. Я тогда искренне сожалел об этом, потому что мне действительно хотелось проститься с ним, это было не просто данью вежливости, как это обыкновенно и часто бывает.
Насколько я могу судить, такое отношение к нам было определенно связано с Советским Союзом. Очевидно, для иностранных дворов ситуация была очень деликатной в случае каких-либо официальных, торжественных приемов, на которые необходимо было приглашать иностранных послов. Это всегда касалось только нас, меня во всяком случае, потому что другие главы династий в изгнании приглашались без каких-либо проблем: и Румынский король Михай, и король Петр Югославский. То, что я был исключением из правила, видно было очень явно, и переменилось это только в последние годы, после провозглашения перестройки, когда мы почувствовали, что к нам стало больше внимания.
7
Зимой 1935 года мы с отцом приехали из Сен-Бриака в Париж, где я должен был держать экзамен на аттестат зрелости. Приехали мы 8 декабря, и приезд этот оказался напрасным, потому что я сразу же заболел, чем немало перепугал родителей. 19 декабря приехала в Париж мама, наутро она должна была ехать в Германию, к моей старшей сестре Марии, принцессе Лейнингенской. Прошло всего одиннадцать дней с тех пор, как я с ней расстался, но я был просто потрясен, увидев, какой у нее больной вид. Она очень беспокоилась за меня, и мысль, что она оставляет меня больным, была для нее мучительна. Хотя я был вне опасности - у меня был самый обыкновенный коклюш - ничего другого, как отправить меня домой, не оставалось. Мама ехала к сестре потому, что та ожидала ребенка и чувствовала себя плохо. На другой день мы все уехали из Парижа, она в Германию, мы в Сен-Бриак, и, когда мы прощались, у меня вдруг мелькнуло чувство, которое прошло как-то мимо сознания, что я увижу ее только на смертном ложе. Приехав в Вюрцбург, она простудилась, но, несмотря на болезнь, настояла на том, чтобы навестить Марию, которая не вставала с постели. Тем не менее, роды прошли без осложнений, и в конце января они обе вернулись в Аморбах, где мама снова заболела, и доктора нашли ее состояние серьезным, так как ее организм был очень ослаблен. В день крестин младенца она все же не захотела омрачать атмосферу праздника и, собравшись с силами, участвовала в церемонии. Но это усилие чрезмерно ее утомило, состояние ее с той поры только ухудшалось, и 5 февраля моя сестра Кира выехала в Аморбах.
Мы с отцом были в ужасном неведении. Плохие новости чередовались с хорошими, и мы были далеки от мысли, что конец близок. Но вот 18 февраля пришла телеграмма, сообщавшая, что здоровье мамы заметно ухудшилось, и мы сразу же поехали в Аморбах. Мы застали маму почти в бессознательном состоянии. Она была так слаба, что едва могла шевелиться и говорить. Но все-таки она нас узнала. Она смогла сказать только несколько слов, которые с трудом можно было разобрать. Последующие дни были одним из самых долгих кошмаров для всех нас. Мама постепенно слабела, и доктора уже ничем не могли помочь, мы с минуты на минуту ждали конца. Вечером 1 марта доктора отметили внезапное ослабление пульса. В этот день прибыли сестры моей матери, инфанта Беатриса и принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, и мы все были подле ее постели. В полночь, четверть первого, ее сердце перестало биться. Мы все ее так бесконечно любили, что горю нашему не было предела. На отца было жалко смотреть.
5 марта гроб с телом мамы был перевезен в Кобург, в семейный склеп герцогов Саксен-Кобург-Готских. Мама не любила пышных церемоний, и решено было сделать похороны чисто семейные, не было официальных представителей королевских семей, а только самые близкие люди: моя тетя королева Румынская с дочерью, королевой Елизаветой Греческой, тетя инфанта Беатриса Испанская, семья тети Александры Гогенлоэ-Лангенбургской, мои дяди Андрей и Дмитрий, семья принца Лейнингенского, герцоги Мекленбургский и Саксен-Кобург-Готский, и еще несколько представителей от монархических организаций. Но 6 марта, когда мы шли за гробом в усыпальницу, мы увидели, что улицы полны народа. Это жители города, с большим уважением относившиеся к моей матери, пришли отдать ей последний долг. Проведя несколько дней в Кобурге и столько же с моей сестрой в Аморбахе, мы с отцом вернулись в наш осиротевший дом в Сен-Бриаке. Сестра Кира приехала раньше и ждала нас там. Ужасно было входить в дом впервые после смерти мамы. Во все здесь была вложена частица ее души, каждый предмет напоминал о ней, каждый цветок в саду был посажен ее руками. Смерть ее была страшным ударом для моего отца, и он долго не мог примириться с мыслью, что ее больше нет. В каждом разговоре он возвращался все к той же теме: к воспоминаниям о маме. Он часами перечитывал ее старые письма, рассматривал фотографии. После ее смерти он перенес всю свою любовь на нас с сестрами и старался проводить с нами как можно больше времени. Всю весну и лето этого года я много занимался, готовясь к экзамену на аттестат зрелости, назначенному на 22 октября. 30 сентября мы с отцом опять поехали в Париж. Экзамен должен был проходить в русской гимназии. Эта гимназия существовала в период между двумя войнами благодаря одной русской даме, которая была замужем за англичанином, возглавлявшим нефтяную компанию "Шелл", госпоже Детердинг. Средств у нее было достаточно, и она содержала целый особняк в Нейи, в пригороде Парижа, в котором расположилась русская гимназия. Преподаватели там были очень хорошие. Мне, как ни странно, несмотря на то, что у меня был большой интерес к технике, математика и другие точные науки почему-то тяжело давались. С математикой мне помог мой немецкий преподаватель, тот самый любитель древностей, с которым я и Володя Граф ездили на велосипедах осматривать памятники старины периода друидов, что он отыскивал на своих картах. А физикой и химией занималась со мной другая преподавательница, которая очень помогла мне подготовиться к экзаменам. Это была настоящая ученая дама, она работала в парижском Институте ядерной энергии, ныне Институте Кюри, и была ближайшей сотрудницей Марии Кюри. Звали ее Екатериной Антоновной Шамье, она была русской эмигранткой, хотя ее фамилия и звучала вполне по-французски. Она была дочерью нотариуса, одаренность ее проявилась уже с детства, и семья позволила ей получить образование в Швейцарии. Это очень интересный факт, показывающий, какие выдающиеся люди встречались в те времена среди наших эмигрантов. При том, что французы не были шовинистами и принимали всех наших беженцев, кто желал поселиться во Франции, давали им разрешение на работу, все же случаи, чтобы иностранец занимал ответственный пост были сравнительно редки, и если человек попадал на такое место, значит, он действительно обладал исключительными качествами или способностями. Человек совершенно неутомимой энергии, Екатерина Антоновна была не только выдающимся ученым в области ядерной физики. Она являлась одной из основательниц русской гимназии, где сама же и преподавала физику и химию. Мужа у нее, кажется, не было. По крайней мере, у нее был вид человека, целиком посвятившего себя служению науке. Рассказывали, что во время войны в оккупированном Париже она осталась в институте одна и продолжала работать. Когда гитлеровцы вошли в пустое здание института, они увидели в одной из лабораторий женщину, занятую своими опытами и не обращавшую на них никакого внимания. Они постояли, повернулись и ушли. Вскоре она умерла от болезни, вероятно бывшей следствием ее опасных для здоровья опытов. Благодаря помощи этой необыкновенной женщины я разобрался в физике и успешно выдержал экзамены, чем очень обрадовал отца, который переживал за меня. Каждое утро он приходил со мной в гимназию и часто звонил туда в конце дня, чтобы узнать, освободился ли я.
На Рождество мы с отцом и Кирой поехали в Лондон, где провели среди друзей и знакомых Рождественские каникулы и встретили новый, 1937 год, и в середине января перебрались в Швейцарию, где собирались заняться зимним спортом перед поездкой в Германию на годовщину смерти мамы. Но по пути в Кобург, в Мюнхене, отец внезапно тяжело заболел. Едва он немного поправился и был в состоянии доехать до Кобурга, мы сразу же выехали туда, но по приезде его состояние снова резко ухудшилось, и нам пришлось задержаться там надолго. Мы вернулись в Сен-Бриак только 5 апреля. Болезнь моего отца была знаком общего ослабления его организма. Он страдал атеросклерозом, в результате чего ухудшалось его кровообращение, слабело зрение, левая нога и пальцы правой руки были слегка парализованы.
Все лето мы провели в Сен-Бриаке, где я готовился к вступительным экзаменам в университет. В моем случае вопрос о военном образовании, бывшем в нашей семье традицией, конечно, совершенно отпал. В других династиях, оказавшихся в таком же положении, было, правда, два случая прохождения службы в иностранных войсках: царь Симеон Болгарский и король Леко Албанский прошли американские военные училища, но это было по желанию их родителей. А мои почему-то этого не желали. Я думаю потому, что в тридцатые годы это был вопрос очень деликатный, трудно было выбрать. Французская армия была армией республиканской. Что касается Англии, то она, как известно, вела себя довольно двусмысленно после революции, и это оставило некоторую горечь в сердцах моих родителей. Америка же была тогда еще очень далека и чужда, как-то не думали о ней, не считали великой державой, в первой мировой войне она еще не играла той роли, как во второй и после нее. А может быть, мои родители считали, что в настоящий момент более широкое образование предпочтительнее, нежели военное. Я теперь думаю, что если бы не произошло революции и события продолжали бы нормально развиваться, эта традиция вряд ли соблюдалась бы так строго, обратили бы внимание на то, чтобы члены Императорской семьи принимали большее участие в государственной жизни и иногда занимали бы ка-кие-то должности. А это было бы вполне возможно и даже желательно, потому что в момент революции создался какой-то вакуум из-за того, что все были на фронте, а в тылу, вокруг правительства, фактически никого из Романовых не было. Как бы то ни было, я стал готовиться к поступлению в университет. Впрочем, впоследствии у меня всегда был контакт с различными военными организациями, они иногда просили меня быть почетным членом, и я соглашался, но без того, чтобы числиться официально в их рядах.
Осенью мы с отцом и Кирой опять поехали в Лондон, и началась моя студенческая жизнь. Мы жили в Кью, в доме моей тети инфанты Беатрисы. Отец часто оставался один и проводил время за чтением, поскольку я большую часть дня отсутствовал. Он плохо себя чувствовал, ему прописали курс лечения, но лекарства мало помогали. Он отнес это за счет английского климата, и ему не терпелось вернуться в Сен-Бриак, куда мы собирались на Рождество. Но незадолго до назначенного отъезда моя сестра и я получили приглашение от принца Германского провести рождество с его семьей в Потсдаме. Грустно было оставлять отца одного в Сен-Бриаке на все праздники, но мы не могли отказаться от приглашения. Мы все вместе доехали до Парижа, и оттуда отец уехал в Сен-Бриак, а мы с Кирой в Потсдам, где 23 декабря сестра обручилась с принцем Луи-Фердинандом Прусским (16). Отцу была послана телеграмма, и он дал свое благословение. Нам очень хотелось вер-нуться поскорее в Сен-Бриак, но надо было ехать в Дорн (17), где кайзер Вильгельм также с нетерпением ждал нас, чтобы благословить жениха и невесту.
Наконец, 5 января 1938 года мы с сестрой и принцем приехали в Сен-Бриак. Радости отца не было предела. Он одобрял выбор Киры и говорил, что теперь его душа спокойна. 18 января я уехал в Лондон, где начались занятия в университете, а 25 января Кира уехала в Дорн. Отец остался один с адмиралом Графом, который долгие годы был его секретарем. Приступы его болезни снова участились, и он постоянно сетовал на ухудшение зрения. Но в феврале вернулась Кира, а чуть позже приехала наша старшая сестра Мария, и он опять почувствовал себя лучше, хотя и скучал без меня. Когда же я приехал в конце марта, его состояние улучшилось настолько, что он смог поехать с нами в Париж, на большой прием, который устраивала русская колония в честь Киры, чтобы отпраздновать ее помолвку. В последний момент, боясь, что эмоции могут ему повредить, отец не пошел на прием, а остался в гостинице, где мы остановились. Но он все равно волновался, с нетерпением ожидая нашего возвращения, чтобы узнать, как прошел вечер. Прием был замечательный, и мы все в тот вечер были в прекрасном расположении духа. Вернулись мы в Сен-Бриак 8 апреля, и в первую же ночь по приезде у отца началась ужасная боль в ноге, которая не прекращалась до самой его смерти.
Свадьба Киры была назначена на 2 мая, и мы с отцом, конечно, ждали этого дня с нетерпением. Но в середине апреля ему было так плохо, что поездка для него казалась немыслимой. Тем не менее, он к ней готовился, и его врач считал, что она может пойти ему на пользу и даже поставить его снова на ноги. Все же до последнего дня мы ни на что не могли решиться. В конце концов, 27 апреля мы поехали в Париж, чтобы там решить, сможет ли отец ехать дальше. С ужасно неспокойной душой 30 апреля мы решились ехать. Свадебные торжества в Потсдаме и в Дорне оказались действительно очень утомительными, но отец был бесконечно счастлив присутствовать на бракосочетании Киры и возвратился домой в приподнятом настроении.
Мы опять провели лето в Сен-Бриаке. Здоровье отца немного улучшилось, но к концу лета это улучшение опять сошло на нет. Боли не прекращались, особенно он страдал по ночам. Так кончилось лето. В сентябре я должен был ехать на учебу, и сестре Марии, пробывшей с нами часть лета, тоже надо было возвращаться к своей семье в Германию. Врач считал, что состояние отца не было критическим и что в нашем присутствии не было необходимости. И все же 16 сентября появились признаки гангрены, которая начала распространяться. Об этом немедленно сообщили моим сестрам и братьям отца. Из Парижа был вызван специалист, который рекомендовал как можно скорее перевезти отца в одну из парижских больниц. 21 сентября сестра Мария и наши дяди, Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи, прибыли в Сен-Бриак и привезли с собой еще одного врача. На другой же день, по настоятельным советам медиков, отец был доставлен на машине в Париж и помещен в Американский госпиталь. В этот же день я, до-срочно сдав экзамены, выехал туда же из Лондона.
В больнице отец был осмотрен несколькими крупными специалистами, которые признали его состояние далеко не безнадежным, и не исключена была даже возможность обойтись без операции. Мы все преисполнились надеждой, что он поправится, но в последующие дни боли усилились, и ни одно из болеутоляющих средств уже не помогало. Утром 9 октября, во время перевязки, обнаружились свежие симптомы гангрены, и оказалось, что положение очень серьезно. Немедленно был созван консилиум, который пришел к заключению, что, в силу общей слабости организма, операция невозможна и что пациент безнадежен. Когда мне это сказали, я с трудом мог поверить, что нет никакой надежды. Отец был в полном сознании, и, поскольку боли его внезапно прекратились, он думал, что его состояние улучшается. Но на другой же день силы оставили его, и он то разговаривал с окружавшими его людьми, то впадал в забытье. Он уже с трудом мог шевелиться, и 11 октября, после того как он исповедовался и причастился Святых Даров, он впал в коматозное состояние. 12 октября, в половине восьмого утра мы с сестрой, братья отца и его сестра, принцесса Елена Греческая, были вызваны в госпиталь; врачи ждали, что отец умрет с минуты на минуту. Мы провели несколько последних часов у его постели. В нем едва тлело слабое мерцание жизни, и в 1 час 15 минут пополудни сердце его остановилось. Он умер во сне. Лицо его было спокойно - казалось, он наконец обрел покой после шести месяцев непрерывных страданий.
Смерть моего отца явилась страшным ударом не только для нас, но и для множества русских эмигрантов. Этот день был воистину днем национального траура. Во всех русских церквах были отслужены панихиды, и церкви эти были полны плачущих. Его гроб был живая масса цветов. Утром 17 октября прах его был отправлен на катафалке в Кобург, и я ехал следом на своей машине. 19 октября мы похоронили его в фамильном склепе герцогов Саксен-Кобург-Готских рядом с моей матерью.
Отцу было всего 62 года, когда он умер. Богу не было угодно, чтобы он еще раз увидел свою страну, которую горячо любил. Годы ужасов, страданий, неслыханных по жестокости экспериментов, которые проделывали над ней узурпаторы власти, продлились дольше, чем одна человеческая жизнь, и в последние годы многим казалось, что эти утраты необратимы. Но вот мы дожили до этих дней, когда национальный российский штандарт замелькал сначала на площадях, а теперь реет высоко над Россией. Это то же самое знамя, которое было знаменем русской монархии, было символом мирной жизни, прогресса и процветания, залогом мира в Европе, и это знамя, поверженное в прах, было поднято в двадцатые годы моим отцом. И может быть, придет день, когда русский народ узнает о жертвенном подвиге моего отца, когда он с глубоким пониманием международной обста-новки того времени, с учетом тогдашних возможностей, начал борьбу за спасение России.
Отец всегда верил, что коммунистическая диктатура в России придет к краху как к логическому концу. Процессы 1937 года, даже при том, что огромное количество их было явно сфабриковано, явились для него лучшим доказательством общей ненависти к режиму. Ведь даже люди, причастные каким-то образом к почестям и материальным привилегиям, оказались в оппозиции к правительству, а самому диктатору виделось вокруг одно предательство, и он, не находя практически никого, на кого он мог бы положиться, уничтожал без пощады своих настоящих и мнимых врагов, разрушая при этом всю структуру государства, разрушая военную мощь России в то время, когда международное положение было очень нестабильным. По мнению моего отца, этим он доказывал всему миру то, что он заинтересован только в личной власти и нисколько не думает о благе народа.
Не исключая возможности скорого падения этого режима, отец незадолго до смерти, в марте 1938 года, опубликовал акт, в котором отразил свои взгляды на будущую структуру России. В момент тяжелого кризиса отец считал своим долгом как наследник Империи и русских царей, создавших могучее государство, высказать свое мнение о том, как и на какой основе страна может быть возрождена. После неизбежного падения диктатуры, как он считал, отсутствие нового правительства, способного обеспечить сиюминутный контроль администрации, добавит новые беды к тем бесчисленным бедствиям, которые уже пережила Россия. Самой большой опасностью была бы новая гражданская война, которая привела бы к дезинтеграции государства, к потере земель, которые в течение веков являлись неотделимой частью России; многое из того, что народам России удалось ценой неслыханных трудов и лишений восстановить после первой гражданской войны, вновь было бы повержено в прах. Чтобы избежать этого продолжительного кризиса, который расстроил бы российскую жизнь на добрых четверть века, необходимо стабильное национальное правительство, которое могло бы воздвигнуться незамедлительно. Это не могло быть исполнено никем, кроме законной монархии, чья политика была бы комбинацией продолжения традиционных методов управления и учета новых запросов и духа времени. Это была бы монархия, основанная на единстве наций, на отказе от политики раскола, антагонизма классов, на веротерпимости, свободе совести, равенстве прав всех национальностей и широком участии всего народа в политике, управлении страной, экономике, а также на наследственности верховной власти, которая должна стать как бы постоянным, естественным арбитром. Он твердо верил, что такая монархия спасла бы Россию от многих внутренних проблем и внешних угроз и вывела бы ее на дорогу прогресса и благоденствия. Вдобавок, он подчеркивал, что общественная и личная свобода - мираж без суверенной монархической власти, которая может гарантировать продолжительность и стабильность установленного гражданского порядка, непрерывность этой власти делает монархию способной предпринимать са-мые радикальные и решительные реформы, так часто необходимые для прогресса и блага народа.
Вопросом чрезвычайной важности считал мой отец вопрос о Церкви. Россия в течение многих веков была провозвестницей христианского духа среди народов. Православная церковь, охранительница этого священного и драгоценного наследия, осиянная мученическим концом, утвердившаяся в борьбе и страданиях за годы гонений, должна пользоваться приоритетом по отношению к другим вероисповеданиям, но в то же время никому не возбраняется исповедовать свою веру.
Что касается вопроса о национальностях, также имеющего огромное значение в многонациональной стране, по мнению моего отца, новая империя должна будет представлять собой тесный союз всех национальностей и народностей, входящих в нее. Недопустимо должно быть всякое давление русского большинства на национальные меньшинства. Также должны быть сохранены права казачества, верой и правдой служившего нашему отечеству в течение всей своей многовековой истории. Мой отец неоднократно подчеркивал, что монархия не принесет никакого отмщения и сведения счетов, но отдаст должное всем трудовым подвигам, совершенным на благо нашей страны россиянами, внутри или вне России, за все эти годы испытаний.
Также одним из самых серьезных считал он аграрный вопрос. По его убеждению, коммунистический режим, чья политика коллективизации была направлена на уничтожение крестьянства, разорил и обездолил весь класс земледельцев. Восстановление деревни должно стать главной заботой правительства, проблемой, которая должна быть решена со всей честностью и в соответствии с чаяниями населения. Сельские жители в империи должны занять то место, которое по праву принадлежит им в современном обществе, они должны пользоваться всеми благами, которые обеспечивают равенство классов, свободный труд и неприкосновенность частной собственности. Право частной собственности на землю должно быть распространено на всех граждан страны. Новая система гражданского права должна позволить приобретение, отчуждение и наследование частной земельной собственности. Каждый трудящийся на земле должен иметь полную свободу сбыта плодов своего труда.
Мой отец признавал тот факт, что правительство, порожденное революцией, израсходовало большую часть своей энергии на развитие тяжелой промышленности. Создание новой индустриальной базы одновременно привело к увеличению численности рабочих. Эти огромные массы заводских рабочих правительство пыталось использовать в политических целях. Чтобы привлечь на свою сторону рабочий класс, авангардом которого она себя называла, диктатура приписала себе заслугу в деле его освобождения. В действительности же она не только не преуспела в достижении какого бы то ни было улучшения условий труда или увеличения минимального дохода русского рабочего, но и привела к практическому порабощению всех трудящихся в России. Социалистическое общество в реальности полностью вернулось к крепостничеству в новой его форме, к тому, что в России не было и следа того социального прогресса, который имел место в других развитых странах.
В эффективность сосредоточения промышленности и торговли в руках государства он никогда не верил. Дорогостоящие жертвы, принесенные народами России, по его мнению, ни в коей мере не были оправданы достигнутыми результатами. Он считал, что свобода торговли и частная инициатива в промышленности должны быть восстановлены в допустимых пределах и в интересах всего общества. Точно так же должны быть решены и другие экономические проблемы. Решение ни в коем случае не должно быть использовано в делах осуществления чьих-то политических амбиций.
Оборона страны была, конечно, вопросом, к которому мой отец проявлял особый интерес. Первоклассная военная и морская подготовка, которую он получил в императорской России, а также его многолетняя служба, во время которой он занимал все более ответственные посты во флоте, делали из него компетентного судью в подобных вопросах. Этот интерес не прекратился и в эмиграции - отец всегда был в курсе всех новшеств в области военной техники. Он считал, что при том ожесточенном международном соперничестве в области вооружений, которое имело место в те предвоенные годы, Россия не должна была отставать, и никогда не упускал случая выразить признание заслуг русских солдат и военных специалистов, чья самоотверженность привела к такому уровню совершенства в армии и военно-воздушном флоте. Но настал день, и генералитет этой армии, несмотря на заслуги перед родиной, был истреблен своим же безумным правительством...
Таковы были политические взгляды моего отца. Самой поразительной чертой его характера было то, что он, хотя и оставил за своими плечами самую яркую часть своей жизни, всегда живо интересовался всем происходящим в мире, особое внимание проявляя к вопросам государственного устройства, которое в период между двумя мировыми войнами выразилось в крупнейших странах в таких различных формах. Он был человек передовой во всех смыслах этого слова, и его политические взгляды основывались на запросах современности.
8
Через несколько дней после смерти отца я опубликовал манифест, в котором объявлял о наследовании всем правам и обязанностям своих царственных предков. Я решил продолжать пользоваться титулом Великого Князя. В те дни я также написал письмо к Митрополиту Анастасию, председателю Архиерейского Синода, в котором обращался к нему с просьбой о содействии в деле объединения вокруг меня всех русских людей. Он ответил мне пространным напутствием, глубоко меня тронувшим. "Вашему Императорскому Высочеству, - писал Владыка, - указано быть ныне и носителем, и хранителем этого священного Царственного первородства, дабы не погасла историческая свеща в сумерках наших смутных и скорбных дней. С нею Русские люди, в рассеянии сущие, чают при помощи Божией войти в освобожденную Русскую землю, где эта свеща будет снова водружена во Всероссийской свещнице, чтобы ярко светить не только тем, иже в храмине суть, но и перед лицом всего мира".
Я провел некоторое время в Сен-Бриаке. Моя старшая сестра - младшая была тогда в свадебном путешествии и не смогла присутствовать на похоронах - приехала побыть со мной, чтобы мне не было слишком одиноко. Хотя я не был совершенно один, со мной оставался начальник канцелярии отца, Георгий Карлович Граф, и всячески меня морально поддерживал. Потом сестра должна была вернуться к мужу и детям, а я поехал в Англию продолжать занятия. Там я неожиданно принял другое решение: на время прервать учебу и пойти работать. Я хотел испытать на собственном опыте жизнь простого рабочего человека. Мне казалось, что полезно будет узнать и увидеть воочию, чем живет, какие имеет надежды, трудности, переживания человек, работающий на самом низком уровне промышленности. В те годы я, как и многие мои сверстники, увлекался авиацией, и мне хотелось попасть на какой-нибудь авиационный завод (18). У меня были знакомые англичане, имевшие связи в английской промышленности, и я по просил их найти мне место. Правда, с авиационным заводом ничего не вышло. В те годы, уже перед самой войной, иностранцев в Англии перестали брать на предприятия, связанные с военной промышленностью, а все самолетостроительные заводы были с ней, конечно, связаны. Моим друзьям удалось устроить меня на небольшой завод, производивший двигатели различного назначения и величины, от больших, для теплоходов, и кончая совсем маленькими, для сельскохозяйственных машин (19). Я поступил на этот завод рабочим под фамилией Михайлов - под этой фамилией работал простым плотником мой пращур Петр Великий на корабельной верфи в Детфорде, неподалеку от Гринвича.
И действительно, оказалось, что это хорошая школа жизни. Я жил, как и другие рабочие, снимая маленькую комнатку на деньги, которые зарабатывал. Работать мне пришлось недолго, около шести месяцев, и закончились мои трудовые будни летом 1939 года, когда угроза войны сделалась слишком явной. Я получил тогда очередной отпуск - полагалось, кажется, пятнадцать дней в году - и поехал к себе в Сен-Бриак. К концу моего отпуска стило видно, что дело уже совершенно очевидно идет к войне, и я попросил продлить мне отпуск, решив обождать и посмотреть, что будет дальше, чтобы не оказаться оторванным от единственного моего дома, оставшегося мне после родителей, и того малого количества имущества, которым я вообще в мире обладал. И вскоре оказалось, что мое решение было правильным. Война действительно разразилась, и, окажись я в Англии, я был бы совершенно отрезан от всего света.
Уже летом 1940 года в Сен-Бриаке появились первые немецкие части. Их продвижение было очень быстрым, потому что французы оказались неподготовленными к серьезным военным действиям. Многие тогда в панике бежали, был настоящий, как французы говорили, "исход", но я подумал: куда мне деваться? Мы и так были на самом берегу, бежать непонятно куда было и бессмысленно и рискованно, и мы с адмиралом Графом, который был все время со мной, посовещавшись, решили остаться. Еще были тогда со мной полковник Синявин и моя старая учительница. И вот в один прекрасный день немцы оказались в нашей окрестности и, что, впрочем, было совершенно нормальным для военного времени, стали проверять всех жителей. Я тоже получил повестку, в которой меня просили прийти, чтобы выяснить, кто я такой и на каком основании здесь живу. Я предъявил оккупационным властям свои документы, дал объяснения, они эти сведения куда-то отправили - и меня оставили в покое и больше не тревожили. Немцы вообще были хорошо информированы относительно королевских домов. Надо сказать, что мне тогда повезло, отношение немцев ко мне было вполне корректным, потому что наша местность считалась фронтовой зоной - мы жили на берегу, как раз напротив Англии - и она была занята передовыми войсками, а не партийными частями, подобными тем, которые так бесчинствовали некоторое время спустя в России. Я и потом неоднократно имел возможность заметить, что военные ведут себя гораздо лучше, чем партийные.
Я прожил в моем доме в Сен-Бриаке почти всю войну, до 1944 года, и все эти годы начальник канцелярии адмирал Граф, полковник Синявин и моя учительница Екатерина Александровна оставались со мной, так что я не был в доме один. Этих людей я любил, и они обо мне заботились, постоянно меня морально поддерживали, и я не чувствовал себя одиноким, хотя, конечно, мне очень не хватало сестер. Мне иногда удавалось через оказию переписываться с ними. Знакомые немцы, никогда не отказывая, брали письма для передачи или чтобы опустить их прямо в Германии, а иногда я писал с простой почтой - и письма доходили, конечно, пройдя через цензуру. В то время я очень много читал, у моих родителей была довольно обширная библиотека, и я старался пополнять свои знания. В свободное время немного, ради физической нагрузки, ездил по окрестностям на велосипеде, на машине ездить не было возможности, потому что практически нельзя было достать горючего, а еще труднее получить разрешение. Так я и проводил время между чтением и другими вынужденными занятиями, и, может быть, такое времяпрепровождение могло показаться глупым, но ничем другим заняться было в тех условиях невозможно. Иногда встречался со своими знакомыми французами, из тех, кто остался,- их было немного.
Почти год мы жили как в глубоком тылу, потому что серьезные военные действия тогда еще не начались, хотя наша береговая полоса считалась фронтовой зоной. В этих военных частях, которые пришли к нам первыми - и должен сказать, они выгодно отличались от тех, что пришли потом им на смену, - было несколько молодых офицеров, оппозиционно настроенных к гитлеровскому режиму, так что я мог разговаривать с ними совершенно открыто. Они были просто в ужасе от политики Гитлера и от всего происходящего и уже тогда говорили мне: "Его политика - это верная наша погибель". Они увидели это очень рано, задолго до покушения на него. От них я и узнал о тех ужасах, которые творились в России. Из-за того, что фюрер повел такую политику, он вызвал к себе ненависть, которая, конечно, и по сей день не забыта. Я помню, мне рассказывали участники первой мировой воины, что никакой особой вражды тогда они друг к другу не чувствовали, что, конечно, усугубляло трагедию этой войны. А на этот раз немцы вызвали против себя страшную озлобленность и, как следствие, ожесточенное сопротивление, что, конечно, было совершенно нормальной реакцией. Сами немцы это видели и ужасались. Ни мне, ни моим собеседникам было непонятно, каким образом они могли быть так близоруки.
Впрочем, из нас, русских, мало кто заблуждался на счет Гитлера, прочитав его сочинение "Майн Кампф". Мы вполне могли отдать себе отчет, куда его идеи могут завести. Там он совершенно открыто высказывал свои соображения относительно России, которая, по его теории, являлась страной и нацией "унтерменшен", как он нас именовал, то есть низшего уровня. На ее территории была бы возможна экспансия для "герендфельтен", высшей нации, каковой он считал себя и своих немцев. Так что мы этой экспансии могли рано или поздно ожидать, и нам скорее непонятен был "недосмотр" со стороны людей, которые склонны были его поддерживать. Впрочем, внутри самой Германии многим было вначале непонятно, к чему он может прийти. Он имел несомненный талант как оратор и как политик, а экономическое положение в стране тогда было трудным, и его охотно поддержали, потому что многим он представлялся чело веком, который может помочь выйти Германии из тяжелого экономического и социального кризиса, наступившего после первой мировой войны. А те, кто поддерживал Гитлера за пределами страны, видели в нем и его политике определенную возможность противопоставить какую-то реальную форму общественного устройства коммунизму, национального социализма - интернациональному. Теперь, когда говорят о национальном социализме или фашизме как о чем-то крайне правом, "экстрем-друат", как говорят здесь во Франции, это вызывает у меня, как минимум, улыбку, если не смех, потому что вся эта теория вовсе не была чем-то правым, консервативным в нормальном понимании. И первым такую политическую систему крайнего социализма, который был бы национальным, а не интернациональным, выдвинул Гитлер. И в этом, я думаю, заключался оптимизм по отношению к нему в первое время и поддержка идеи национального социализма в противовес интернациональному.
Приход к власти Гитлера вскоре отразился на положении многих моих немецких родственников, к которым установившийся в Германии режим стал проявлять неприкрытую враждебность. Началось это с того момента, когда погиб старший брат кронпринца, который в силу своего неравного брака не имел уже прав на престол. Он погиб во время французской кампании, и гибель его явилась большим несчастьем для семьи, особенно если учесть, что потери немцев тогда, в сороковом году, были сравнительно малыми. Тот факт, что на фронте погиб представитель прусской королевской и императорской германской семьи, был воспринят очень глубоко и сильно во всей Германии, и ему устроили торжественные национальные похороны как одному из первых павших во время этого несчастного конфликта. После этого Гитлер издал приказ удалить с военных постов всех титулованных особ, то есть членов королевских фамилий. В Германии было много принцев из королевских семей - прусской, баварской и других, - и очень многие из них были военными и, несмотря на свое отрицательное отношение к гитлеровскому режиму, считали своим долгом воевать, раз их отечество было на военном положении. Поэтому многим из них было тяжело морально, когда их вернули с фронта, - впрочем, может быть благодаря этому многие из них и не погибли. Этот акт Гитлера показал его неприязнь по отношению к королевским особам, которая все усугублялась и была, конечно, взаимной, потому что всем этим принцам было ясно видно, что его политика и военные действия ведут к неминуемой катастрофе.
В самый разгар войны я вдруг узнал, что в Сен-Бриаке содержатся русские пленные, частью на материке, а частью на прибрежных английских островах, оккупированных немцами, и что положение их довольно трудное. Другие военнопленные получали через Красный Крест помощь от своих правительств, посылки и письма из дома, а русским помощи было ждать неоткуда. Известно, какое отношение было к ним в России, всех их априори считали предателями, перебежавшими на сторону врага, так что можно себе представить, в каком бедственном положении оказались эти несчастные люди. Поскольку у меня был контакт с несколькими офицерами, мне с их помощью удалось немного помочь им. Когда я поднял этот вопрос, они проверили, и, насколько мне известно, положение наших пленных немного облегчилось. Они работали, главным образом, на строительстве укреплений. Тех, которые были на островах, я никогда не видел, а с некоторыми из работавших на материке потом несколько раз встречался, и мы разговаривали, они рассказывали мне про свою жизнь. Очень большой помощи, конечно, оказать им было невозможно, но даже то немногое, что удалось сделать, было для них светлым моментом в их печальном положении, когда они узнали, что хотя бы кто-то заинтересовался ими. Что с ними произошло потом, я не знаю. Когда после начала перестройки открылась возможность переписки и я стал получать невероятное количество писем из России, я всегда надеялся, что кто-нибудь из них уцелел и напишет мне, но боюсь, что нет, потому что все, кто был возвращен, попадали в лагеря и очень многие погибали.
В 1943-1944 годах, когда в войне наступил перелом, начались налеты союзной авиации. Я помню, как доказательством серьезного военного преимущества союзников явился для меня один такой налет, когда над нами в течение почти что получаса летали союзные самолеты. Они пролетали над нами непрерывно, одна группа за другой, как конвой на дорогах, и мы не могли сосчитать, сколько их было, но - я следил по часам - лете ли они ровно 28 минут. Но военных действий на месте еще не было, и я вынужден был уехать до того, как союзные войска стали высаживать десанты и начались уже настоящие бои. В начале весны 1944 года явился ко мне один из высокопоставленных офицеров, командовавший крепостью порта Сен-Мало, некий полковник фон Аулок. Оказалось, что в бытность свою младшим офицером, в молодости, он был знаком с моей бабушкой Марией Александровной. Их полк стоял в Кобурге, и бабушка, любившая молодежь, приглашала к себе молодых офицеров, устраивала для них вечера, и они все ее очень любили и даже ласково называли "тетей Мари". И вот этот фон Аулок сказал мне: "Хотя я права и не имею, но как джентльмен джентльмена я должен вас предупредить, потому что мне известно, что вас попросят покинуть побережье, и довольно скоро".
Благодаря этому предупреждению приказ об отъезде не застал меня совершенно врасплох, и мне удалось даже достать бензин и перевезти какие-то вещи на машине в Париж, где один из моих друзей очень любезно предоставил в мое распоряжение свою квартиру - сам он с семьей жил в деревне. Он был из знаменитой семьи, звали его Людвиг Нобель, и сам знаменитый ученый приходился ему, кажется, дядей. Человек он был состоятельный и, хотя и являлся шведским подданным, много лет прожил в России и по-русски говорил как настоящий русский. Я остановился у него в Париже, но вскоре мне было передано через немецкого посла - было тогда нечто вроде посольства в Париже, помимо Виши, и послом был некий Абец, профессиональный дипломат,- правда, в вежливой форме, что меня просят покинуть Париж. Просьба эта, конечно, была требованием. Первым этапом из Парижа был город Виттель, небольшой курорт, который славится своей минеральной водой. Я провел там в ожидании два дня, и только после этого мне сказали, что придется ехать дальше и что меня просят выехать в Германию. Можно себе представить, что я чувствовал себя довольно неуютно. Правда, у меня спросили, где я предпочел бы остановиться в Германии. И я, естественно, ответил, что хотел бы остановиться у своей старшей сестры Марии, которая была замужем за принцем Лейнингенским. Я прожил у нее несколько месяцев, в конце 1944-го - начале 1945 года.
Я так никогда и не узнал, почему меня тогда, в июле 1944 года, перед высадкой союзного десанта, решили удалить с побережья. Думаю, что это было результатом того, что я совершенно открыто говорил с военными и высказывал все, что думал,- но ведь они и сами все понимали и в прямом смысле рвали на себе волосы, потому что любой военный, даже просто солдат, не мог не видеть, что их кампания идет к абсолютной катастрофе. Мне также неизвестна дальнейшая судьба моих знакомых офицеров. Это решение увезти меня определенно шло по политической линии, а не военной, и я до сих пор теряюсь в догадках, потому что потом все очень быстро рухнуло, и после Нюрнбергского процесса уже некого было спросить.
Я жил в большом доме мужа моей сестры, с сестрой и ее детьми - муж ее, к сожалению, был на войне. Когда весной в сорок пятом году вся национал-социалистическая аппаратура распалась и не было уже никакого контакта с Берлином, местные военные дали мне горючего (я приехал из Франции на своей машине), и я решил ехать на юг, выбраться из Германии в Швейцарию. Я проехал через Австрию до швейцарской границы и остановился в одном маленьком городке. Когда в город вошли французские войска (это были передовые части, дивизия генерала Леклера), у меня с ними завязался контакт. Офицеры остановились в той же гостинице, что и я. Вечером того же дня мне позвонили в комнату и сказали, что какие-то военные хотят со мною увидеться. Я спускаюсь в холл и вижу двух офицеров - один оказался французом, а другой американцем. Собственно, француз был русским, и мы даже в юности были знакомы, встречались в каких-то компаниях. А второй был американским офицером, осуществлял связь между французскими и американскими войсками, очень милый молодой человек, с которым мы тогда подружились и долго потом переписывались. Они меня познакомили с другими военными, и в тот же вечер я ужинал с полковником той бронечасти, которая вошла в город. Перед уходом из города они меня препоручили другим военным, занявшим их место. Меня оставили в гостинице вместе с сопровождавшим меня полковником Синявиным, который был моим секретарем и начальником кабинета, всем в одном лице. Нам было очень приятно быть с ними в одной гостинице. Я тогда собирался вернуться во Францию и даже получил все бумаги, в том числе разрешение на переезд с машиной, которая была у меня. И вот командир другой уже части, сменившей первую, тоже полковник, попросил разрешения переговорить со мной наедине. "Мне как французу, - сказал он, - очень больно говорить это, но я вам не советовал бы ехать сейчас во Францию, потому что положение наше, политическое и внутреннее, очень неспокойно, повсюду беспорядки, и я просто боюсь за вашу безопасность. Советую вам поехать пока в Швейцарию, если сможете".
Но ни в Лихтенштейн, который зависел от Швейцарии, ни в Швейцарию мне не удалось получить визу. Мне пришлось задержаться на несколько месяцев в Австрии, где я продолжал жить в той же гостинице, в которой остановился по приезде. Тогда я подумал о своей тете Беатрисе и позвонил ей в Испанию. Она сразу же мне сказала: "Приезжай к нам, чтобы обождать, посмотрим, что будет во Франции". Поскольку я получил испанскую визу, Швейцария не могла мне отказать в транзитной визе, и я ее получил - только на 48 часов - с помощью испанского министра, исполнявшего обязанности посла (посольства еще не было) графа де Байлена, ставшего потом моим близким другом. Так я попал в Испанию, сначала в Сан-Лукар, где у моей тети был дом, а затем, в сентябре 1946 года, в Мадрид, где год спустя я, совершенно случайно, познакомился с моей будущей женой. Но об этом лучше расскажет она сама.
9
Спустя несколько лет после нашего брака мы смогли вернуться во Францию и с тех пор делили нашу жизнь между Францией и Испанией, иногда путешествовали. Никогда не забуду, как однажды мы летели на Аляску и пролетали над Россией, над всей Сибирью, и эти бескрайние, покрытые лесом пространства, величественные реки, да и само по себе то, что внизу была наша родина, - все это произвело на нас неизгладимое впечатление. Тогда еще я и представить себе не мог, что когда-нибудь увижу ее.
Жизнь наша в пятидесятые-шестидесятые годы протекала довольно спокойно: события, в основном, были чисто семейные. Мы жили тихо, воспитывали дочь. Отношение к нам со стороны французского общества было ровным, не было вражды, но не было и большого интереса. Это изменилось, и очень заметно, только в последние годы, с начала так называемой "перестройки", когда в России широкие массы людей узнали о существовании нашей семьи. Вообще, на мой взгляд, французская республика уже так прочно установилась, что о возможности монархии в ней думает очень мало людей - я знаю, что такие люди есть, но их немного. Раньше, в период между двумя войнами, их было значительно больше, существовала "Аксьон франсез" - организация монархического направления, в которой, между прочим, состоял и нынешний президент Французской республики Франсуа Миттеран, эта организация именовала сама себя крайне правой. Во время войны она исчезла и с тех пор не возобновляла своей деятельности, поскольку после войны отношение общественности к ней было резко отрицательным - впрочем, не только к ней, но и ко всему, что считалось "правым" или на что навешивался этот ярлык. Мне кажется, это явление чисто психологическое. Во всяком случае, к своему наследнику престола, графу Парижскому, эта страна проявляет очень мало интереса.
Все это время мы поддерживали связи с русскими эмигрантами, в большинстве своем, конечно, монархистами и легитимистами. Это было, как правило, продолжение старых связей, как индивидуальных, так и с организациями, продолжавшими существовать, такими, как Корпус Императорских Армии и Флота, Имперский союз, Монархический совет в Германии, с организациями витязей, скаутов и другими - многие из них функционируют и до сих пор. Некоторые из них больше интересовались политикой, другие меньше, но деятельность их, конечно, не была уже такой бурной, как в первые годы эмиграции. С другой стороны, что было, несомненно, позитивным, с течением времени и со сменой лидеров некоторых из этих организаций, постепенно сгладился и раскол между ними, и многие из них, прежде оппозиционно настроенные по отношению к моему отцу, объединились вокруг меня. Затем появилась новая эмиграция, и с некоторыми из этих людей я встречался - обычно мне их кто-нибудь представлял, и действительно, были интересные встречи. И уже где-то в конце шестидесятых - начале семидесятых годов начались у нас первые встречи с людьми из России, не с теми, кто эмигрировал, а с теми, кто приезжал совершенно официально. Помню, в первый раз это произошло во время международного конгресса медиков, и один из русских участников, узнав, что мы находимся в Париже, через наших знакомых попросил о встрече. Для меня это были первые контакты с людьми, которые приезжали почти что из потустороннего мира, и это было для меня чрезвычайно важно и интересно. Но такие встречи, на протяжении всех семидесятых годов, были сравнительно редкими. И вот, не так давно, тоже через знакомых, я познакомился с приехавшим из России кинорежиссером Михалковым. Для меня это была первая встреча с человеком, который занимал в России довольно привилегированное положение и имел знакомства в самых разных кругах, включая и высокопоставленных лиц. С тех пор он, бывая в Париже, всегда посещал нас, и когда потом мы были в России, он появился в Петербурге во время визита и помогал нам, и его верную дружбу мы очень ценим.
Как-то посетил нас мэр тогда еще города Ленинграда, Анатолий Собчак, и в разговоре спросил: "А почему бы вам не приехать в Ленинград, сейчас как раз предполагается вернуть ему его настоящее название, это был бы такой хороший случай". Я ему на это ответил, что частного приглашения мы принять не можем и что такой визит невозможен без согласия, как я тогда выразился, "высшего начальства". И неожиданно, вскоре после этого разговора, последовала очень любезная реакция как Ельцина, так и Горбачева, и мы получили официальное приглашение от мэра города Собчака. Единственное условие, которое я тогда поставил, это, чтобы мы поехали туда без виз,- я не мог просить визу для въезда на свою родину. Это условие было выполнено, и наш визит состоялся.
В тот момент, когда я получил это приглашение, положение было еще очень деликатным, режим только что начал изменяться, и я, конечно, беспокоился немного, все же был риск каких-либо непредвиденных эксцессов, но я тем более оценил тот факт, что этим приглашением нам оказывали доверие. Визит наш был организован очень тактично, без особого шума, и, тем не менее, у нас была очень интересная программа и возможность общения со многими людьми. Все прошло безупречно, так что воспоминания об этом визите у меня самые отрадные. Сколько раз в своей жизни я переносился мыслями в город своих предков, который я всегда считал красивейшим городом в мире - ведь, если подумать, ни у одной страны нет такой столицы, таких дворцов, стоящих почти на самом берегу моря. Сколько раз я листал книги о нем! Но одно дело - смотреть фотографии или кино, и совсем другое - увидеть его впервые воочию, войти впервые в дом своего деда, из окон которого открывается такой прекрасный вид на Петропавловскую крепость, и потом выйти на улицу, на которой слышится речь соотечественников, родная речь.
Со времени нашего возвращения из России прошло совсем немного времени, но многое уже изменилось, я сужу об этом по письмам и по разговорам с людьми, которых все больше приезжает к нам. Идет, безусловно, процесс открытия страны. Сейчас еще трудно предсказать, как он будет развиваться, остается только надеяться, что благополучно, и найдется достаточное количество людей способных и деятельных, готовых защитить национальные интересы, с тем чтобы это движение не превратилось в определенное ослабление нашей страны, в ее, говоря проще, экономический захват, который, если смотреть со стороны, может пленить население показной легкостью (вспомним, что ему довелось пережить!), но, с точки зрения интересов самой страны, может оказаться столь же отрицательным, как и тот, совершенно противоположный режим, от которого теперь, как будто, страна избавилась. Момент этот опасен тем, что и в самой России, и на Западе находится некоторое количество людей, считающих, что русские неспособны сами собой управлять, и возлагающих большие надежды на помощь извне. Меня это, конечно, беспокоит, потому что трудно сказать, что произойдет, если настежь раскрыть все двери и без дискриминации принимать любую помощь, и я надеюсь, что в дальнейшем это положение будет упорядочено и эта помощь, которая, безусловно, может принести пользу и дать материальную возможность выйти из сложившегося тяжелого положения, будет приниматься с весьма определенными ограничениями. Ведь, по сути, мысль о том, что Россия не может существовать без поддержки иностранцев, у нас не нова - достаточно вспомнить одно юмористическое стихотворение Алексея Толстого, в котором он кратко воспроизводит русскую историю, начиная с Гостомысла и до наших, то есть до его, конечно, дней. Начинается оно очень смешно и печально:
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-то, вишь, нет.
И стали все под стягом.
И молвят: "Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить".
Это, кстати, один из самых моих любимых русских писателей, потому что наши классики меня всегда, со школьных лет, удручали тем, что были по отношению к своей стране не совсем доброжелательными, а у Алексея Толстого этот юмор какой-то здоровый, позитивный, и может быть поэтому его особенно ценил Александр III, их связывала личная дружба. Ну, а если изучать историю России не по литературным трудам, а по историческим источникам, то будет видно, что это великая история и что сами русские на многое способны. Поэтому я смотрю в будущее с надеждой и оптимизмом. Не надо только забывать, что за годы советского режима страна в своем развитии была отброшена далеко назад, чуть ли не к эпохе крепостного права, и что ей предстоит проделать колоссальную работу и преодолеть огромную инерцию. Но я убежден, что с этой работой она справится.
Сегодня в России приватизация делает свои первые шаги. Теперь, после того как страна признала законность частной собственности, нужно, конечно, продолжать работать по этой линии так, чтобы частная собственность могла развиваться. Я считаю, что право на нее является в государстве очень важным фактором, и здесь, в первую очередь, надо думать о людях, которые, обретя эту собственность, будут с ней реально работать, главным образом на земле, потому что практически самое важное в любом государстве - это достаток в семьях, без которого трудно обойтись, в чем многие, к несчастью, убедились на своем опыте. Понятно, что если человек имеет собственную землю, то он, естественно, старается обрабатывать ее как можно лучше. На этом принципе земельной собственности и частного земледелия и базировалось наше государство. С тех пор как было отменено крепостное право и появились земельные собственники - как крупные, так и мелкие,- они стали приносить настоящую пользу своей отрасли, земледелию. Поэтому я надеюсь, что крестьянство будет в скором времени восстановлено. В будущем, если только частная собственность на землю будет развиваться, она станет основой возрождения действительно процветающей формы земледелия. Социалистическая система теперь уже показала, что на практике она дает очень слабые, плохие результаты. И я вижу, что в России в последнее время об этом все больше говорят и что многие думают так же. Все чаще появляются в российской прессе публикации со ссылками на Столыпина и его реформу. Правда, иногда встречаются мнения, будто Император Николай II недооценивал Столыпина. Я так не думаю, во всяком случае, я знаю, что он был глубоко опечален его гибелью и ясно сознавал величину этой ужасной потери. Допускаю, что, может быть, у них были чисто личные разногласия - бывает, что с одним человеком легче работать, с другим труднее, но это не значит, что Государь был против его реформ или имел неприязнь по отношению к нему - этого, безусловно, не было. И то, что Столыпина убили, было, конечно, большой потерей, потому что, если бы он остался жив, эти реформы могли бы быть проведены спокойно, систематически и страна в аграрной области могла бы развиваться совершенно положительно, так что его гибель была для нас большой трагедией.
И вот теперь нашей стране предстоит заново проделать эту работу. Я думаю, что на сегодняшнем этапе государство должно деятельно помогать земледельцам в самом начале чисто финансово: оказывать помощь в покупке, скажем, сельскохозяйственных машин, а затем, в дальнейшем, следить за их работой и направлять ее в выгодном направлении для всей страны. Я верю, что среди эмигрантов также найдутся люди, которые захотят помочь возрождению нашей страны, и эти люди, при желании, смогут принести, безусловно, очень большую пользу. В количественном отношении пока еще трудно сказать, сколько их будет, но, даже если этот процесс начнется с малого, он будет разрастаться все больше и больше, если будут хорошие примеры.
Я думаю, процесс восстановления страны будет во многом зависеть от обеспечения личной безопасности и порядка. С появлением первых частных предприятий в России сразу стало слышно и о таком негативном явлении, как рэкет. Я считаю, что с этим возможно и необходимо систематически и деятельно бороться, и в этой борьбе так или иначе нужно пользоваться теми силами, которые уже имеются в стране, потому что силы охраны порядка, их можно называть как угодно, полицией или милицией, должны быть в каждом государстве и охранять неприкосновенность частной собственности и личную безопасность ее владельцев. Во всех странах были периоды, когда непомерно развивалась какая-то форма грабежа или просто разбоя. В Америке в начале века это было гангстерство, которое приняло огромные размеры и сделалось неким гигантским паразитом, который существовал за счет удачливых предприятий. Ущерб от него в свое время был довольно большой, но все же постепенно стране удалось в какой-то степени с ним справиться. Этого рода явления, к сожалению, в жизни неизбежны, потому что человеческой натуре зачастую свойственны такие черты, как непорядочность или нечестность, но, на мой взгляд, всегда можно найти способ бороться со злом, которое неизбежно возникает одновременно с развитием какой-либо экономической деятельности. И я надеюсь, что в нашей стране оно будет как можно скорее и как можно сильнее ограничено, потому что совершенно уничтожить его было бы просто фантазией. Но бороться с ним безусловно можно, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
Из всех опасностей, которые я вижу, наибольшая, на мой взгляд, - это тенденция к расчленению нашей страны, прежде бывшей Российской Империей. О неизбежности такого распада или о возможности продолжения существования империи я не берусь судить. Создается впечатление, что империи в какой-то момент распадаются, во всяком случае меняют свой облик. С другой стороны, мы имеем и обнадеживающий пример. Единственная крупная империя, которая долгое время просуществовала, это Английская. И в настоящее время страны, прежде входившие в нее, продолжают сохранять до-вольно тесный контакт между собою. По-английски такой союз называют "бритиш-коммэнуэлс", как известно. И мне кажется, что и на территории нашей родины, прежней империи, а затем Советского Союза, возможна будет такая форма общежития, что, безусловно, было бы выгоднее, чем если каждый начал бы жить самостоятельно и действовать врозь. Потому что, во-первых, главным недостатком будет то, что каждая из этих новых стран принуждена будет начать свою самостоятельную жизнь с долгов, это совершенно неизбежно, и им придется просить иностранной экономической помощи, что может иметь и отрицательные последствия. Это одинаково касается всех обосабливающихся частей, как больших, так и малых. А если бы они нашли какую-то форму взаимопомощи и координации действий, то им было бы, на мой взгляд, выгоднее оставаться в некоторой связи и тогда им всем легче стало бы пробивать свой путь. Если бы они смогли так совместно работать (на что я надеюсь, потому что логически к этому вполне возможно прийти), сохраняя каждая свою независимость по мере их желания, национального чувства и т.д., что этой совместной работе нисколько бы не помешало, это было бы наилучшим решением. Главное, чтобы на территории всей нашей бывшей империи как можно скорее были восстановлены всеобщие нормы жизни, прогресс, благосостояние - и я надеюсь, что это будет возможно. Думаю, что в конце концов здравый смысл возьмет верх, и те части, которые теперь отделились, поймут, что в их интересах работать вместе. В какой форме это может осуществиться, сейчас трудно еще сказать. Я представляю себе, как самое реальное, - форму федерации. Я думаю, что это было бы самым благоразумным способом существования в будущем для всех этих новых государств или тех частей, которые очень много лет вместе жили и работали и которые теперь стремятся отделиться от огромной территории бывшей Российской Империи. И я считаю, что было бы совершенно естественным, если бы они продолжали во многом действовать совместно - может быть, общими си-лами они смогут все привести в порядок после разрухи. И я знаю, что очень многие так же думают, потому что я говорил об этом с людьми даже из прибалтийских стран, и с юга, из Крыма, и с Дальнего Востока. Так что возможность единства до сих пор существует, это не какая-нибудь фантазия.
Вопрос об армии тоже очень непростой. Мы сейчас еще не знаем, до какой степени обособление различных частей территории страны будет отражаться на вооруженных силах, но я считаю, что совершенно необходимо, даже если эти различные обособившиеся части будут иметь свои вооруженные силы для защиты от внешнего врага, они, конечно, должны координировать свои действия, и координация этих действий должна идти из какого-то центра. И если будет найдена форма общежития, то одновременно должен быть создан такой центр, который будет принимать главные решения в случаях, когда речь будет идти о всей территории вместе, то есть точно так же, как в США. Там существуют военные организации федеральные и организации штатов, имеющие некоторую политическую независимость. Но, тем не менее, они выработали такую систему, что, в случае надобности, военные действия координируются у них из одного центра. И я думаю, что у нас все это поймут и что нечто подобное будет осуществлено, и охрана наших рубежей будет в общих руках. И я также надеюсь, что российская армия, которая всегда была нашей гордостью, будет оставаться верной своим традициям и достойной своего славного прошлого.
II. Великая Княгиня Леонида Георгиевна
1
Когда моего деда, князя Александра Ираклиевича Багратиона Мухранского, расстреляли красные в Кисловодске, бабушка с дочерью, старшей сестрой отца, приехала к нам в Тифлис. До революции они жили в Петербурге; дед был военным, служил в свите Императора в чине генерал-майора. Бабушка была русская, она была дочерью адмирала Головачева. Это была моя любимая бабушка, она очень на меня повлияла. Мой отец к тому времени давно уже жил в Грузии. В Тифлисе он окончил Кадетский корпус, но ему пришлось отказаться от мысли о военной карьере из-за несчастного случая, который произошел с ним во время беспорядков первой революции 1905 года. Оказавшись как-то на улице в один из этих бурных дней среди бегущей толпы, он очень неудачно упал, и следствием удара была почти что полная потеря слуха. Он долго лечился, сначала дома, потом ездил на лечение в Швейцарию, но это мало помогло, и всю жизнь потом он слышал очень плохо, только одним ухом. Поэтому он решил поселиться в одном из своих имений. Он очень любил деревню, природу и с увлечением занялся хозяйством. Вскоре он встретил мою мать, и в 1908 году они поженились. Отец моей матери был из польских графов Злотницких (20). В Грузию он приехал из-за климата, считавшегося целебным, - привез лечиться свою больную туберкулезом первую жену. Климат ей не помог, она умерла, а он остался в Грузии. Он был красавец, человек редкого обаяния. Когда они познакомились с бабушкой, она влюбилась в него с первого взгляда. Он очень нравился ее родителям, и, после того как они поженились, вся семья его просто обожала, больше того, он завоевал любовь всей округи, и его даже выбрали предводителем дворянства. Моя бабушка была из рода князей Эристовых. Эта ветвь князей Эристовых, по женской линии, вела свое родство от одного из грузинских царей. Рано овдовев, бабушка жила у себя в деревне. Она была большой грузинской патриоткой и в этом духе воспитала моего брата Ираклия.
Я была еще очень мала, но помню нашу жизнь при меньшевиках. Обстановка в городе была неспокойная, и родители сдали часть дома - дом у нас был очень большой - французскому консулу, рассчитывая, что это обеспечит нам безопасность. Безопасность была, впрочем, относительной, потому что, когда в городе началась стрельба, пули стали залетать к нам в комнаты, как пчелы. Нас с сестрой сажали под диваны, и я слышала оттуда, как взрослые говорят о том, что надо бы ехать за границу. "За границу, на другую страницу", - отзывалась я. Большевики подходили, меньшевики отступали, а французы и англичане стали уходить, и ясно было, что без них меньшевики не продержатся. И уже когда в городе творилось нечто невообразимое, французский консул, с которым мои родители за то время, пока он жил в нашем доме, успели подружиться, с большим трудом посадил нас на поезд, который шел в Батум. Этот поезд был битком набит, и меня посадили на багажную полку. Консул уехал этим же поездом, и в Батуме снова помог нам сесть на пароход, и мы поплыли в Константинополь. Так мы оказались в эмиграции. Но, живя в Константинополе, мы все время надеялись, что скоро вернемся домой. Средств на жизнь у нас было совсем мало, мама успела взять только свои драгоценности, и, так как обстановка в Грузии не налаживалась, решено было их продать и переехать в Германию, где, по слухам, жизнь была дешевле. И отец продал эти вещи в Константинополе, продал очень хорошо, и мы поехали в Германию. При проезде через Югославию таможенные чиновники спросили, есть ли у нас валюта. Отец был честнейший человек, всегда говорил только правду, и на этот раз, конечно, тоже честно сказал, что да, валюта есть. И тогда его заставили тут же поменять все эти деньги на местные, которые, как оказалось по приезде в Берлин, почти ничего не стоили. Но мы все-таки смогли продержаться несколько месяцев.
В Берлине мы неожиданно встретили Горького: его сын с женой поселились в том же пансионе, что и мы. И оказалось, что он не забыл, как начинал вместе с Шаляпиным свою карьеру в Тифлисе и как наша семья ему помогала. Он с большой симпатией относился к моим родителям, а нас, детей, очень любил и постоянно баловал. Как-то раз он взял нас с сестрой на море, где у него была вилла. В один из дней он хватился нас: мы исчезли. Поднялся переполох, нас принялись повсюду искать, но тут мы сами вернулись домой. "Где вы были, дети?!" - "Мы уходили плакать, потому что мамы с папой с нами нет". Пришлось родителям приехать. Это были интересные дни, приезжал Шаляпин, он рыл на пляже ямы в песке и говорил: "Ах, если бы это море было кахетинским, как бы мы прекрасно провели здесь время!"
Но устроиться в Германии мы так и не смогли. Отец не знал немецкого языка, специальности у него не было, а в то же время его адвокат писал из Грузии, что он должен вернуться, иначе потеряет и дом, и все остальное имущество. И мы вернулись, а вернувшись, ужаснулись, настолько все стало другим. Уезжали мы в 1921 году, когда кончилась власть меньшевиков, а вернулись в 1923 году. По приезде мы обнаружили, что наш дом кем-то заселен, и нам пришлось некоторое время жить в доме адвоката моего отца. Потом нам вернули дом, и мы, как это ни странно, некоторое время еще оставались его владельцами. Сначала нам говорили, что, если мы его отремонтируем, то его у нас не отнимут, и отец, с превеликим трудом, распродавая вещи, делал ремонт. Ну, а после того, как ремонт был сделан, дом, конечно, отняли, оставив нам под жилье только две комнаты - правда, комнаты были большие, и мы с сестрой даже катались по ним на велосипеде. Потом сделали перегородки и кое-как стали там жить. Самое удивительное, что жильцы, которых у нас поселили, первое время еще платили нам за квартиру. Когда дом окончательно отобрали, с этими платежами было покончено. Мы жили, понемногу продавая оставшиеся вещи. Всех нас заставляли работать, даже детей, иначе не давали продовольственной карточки, Помню, как мы, маленькие девочки, изготовляли абажуры, вышивали платки, вязали какие-то гадости.
Мы с сестрой ходили в школу, где нас не упускали случая кольнуть тем, что мы княжны, и вызывали к доске отвечать про революцию. Ко мне был добр один только учитель математики, и поэтому я изо всех сил старалась хорошо учиться по его предметам. Как-то одна из учительниц, заметив это, спросила меня: "Почему ты уроки по математике делаешь, а другие не хочешь?" Я ответила: "Потому что учитель математики со мной любезен". Это ее очень обидело. Помню еще, как однажды надо было писать изложение. Прочитали нам какой-то текст из брошюры и сказали: "Запишите". Я записала, и мне поставили "ноль". У меня была хорошая память, и я запомнила весь тот текст наизусть и, когда писала, ни одного слова не пропустила. Учительница сказала, что я списывала, хотя, во-первых, откуда мне было списывать, я и брошюры той никогда в глаза не видела, а во-вторых, я наделала ошибок, которых не было бы, если бы я списала этот текст. И так к нам с сестрой часто придирались, но мы старались не обращать внимания.
Но потом отца арестовали один раз, второй, и это уже напугало всю семью. Его вынуждены были выпустить, потому что не нашлось ни одного крестьянина, который дал бы против него показания, а допрашивали всех крестьян той деревни, где у него было имение. Чекист, который выпускал отца, с недоумением сказал: "Что же он мог им такого сделать? Ни один человек не сказал про него плохого, все как один говорили, что он им был как отец". И действительно, отец всегда жил очень дружно с жителями окрестных сел, он и борьбой с ними занимался и вместе с ними ходил на охоту, и после сбора урожая со своих виноградников он всегда устраивал целый праздник, с угощением, с песнями, на который все приглашались, - не удивительно, что вся округа его просто обожала. Мой старший брат закончил школу, и его не приняли в университет. Тогда еще разрешали выезжать, и он уехал учиться за границу. Во Франции жили уже бабушка и тетя, которые после гибели дедушки некоторое время оставались у нас, а потом папа отправил их в Ниццу, и они обосновались там. Брат поехал к ним и поступил учиться. Мы посылали ему раз в месяц два килограмма икры, которую он продавал, и на эти деньги жил и учился. После арестов отца и бесконечных обысков настроение у всех в доме было тяжелое, а выехать за границу стало уже очень трудно. Как раз в это время вернулся в Россию Горький. Он вернулся по своей воле, ему невыносимо стало жить за границей, он там тосковал, не мог писать. Может быть, он чувствовал себя хорошо только "на дне"... На западе многие из эмигрантов, узнав, что он решил вернуться в Россию, отвернулись от него, даже Шаляпин, забывая о том, скольких он спас, скольким помог выехать из России. Среди спасенных им был и Великий Князь Гавриил Константинович - Горький добился его освобождения и помог ему с женой выехать за границу. Узнав о том, что он приехал в Москву, моя мать написала ему, что хотела бы с ним встретиться, и он ответил, что скоро собирается быть в Тифлисе по официальному приглашению грузинских писателей, и обещал навестить нас. И действительно, некоторое время спустя он приехал на две недели в Тифлис и пришел к нам в гости. Он обещал моим родителям устроить нам возможность выехать и слово свое сдержал. С его помощью выехали мы с мамой и с сестрой, а потом, через год, выехал и отец - всем сразу устроить выезд Горький не мог.
Нас он спас, и сколько еще других! Это был исключительный человек. Он нам рассказывал, что не смог жить ни в Италии, ни в Германии, ему не хватало России, а из России к тому же ему постоянно писали, требовали, чтобы он приехал, возмущались тем, что он, писатель из народа, живет вне России, и так далее. Он поверил, вернулся, ему дали прекрасный дом, он хорошо устроился, и вначале ему казалось, что все хорошо. Но вскоре он стал замечать, что происходит вокруг, и тогда он начал переодеваться нищим и ходить по городу, расспрашивая людей. Так он узнавал страшную правду. Сын его тогда же захотел посмотреть Соловки; и ему их, действительно, показали, но показали только то, что было устроено для показа. Тогда он начал требовать, чтобы ему показали все остальное, ему показали и это, и сразу же после поездки он умер, говорили, что он был отравлен. Тут уже Горький все понял и пытался выехать обратно за границу, но это было уже невозможно.
Горький прослыл певцом коммунизма, другом большевиков, и из-за этого отношение к нему у стольких людей было резко отрицательным. Думаю, что все было гораздо сложнее. В те дни, когда судьба свела нас в Германии, он был настроен против большевиков, ни за что не хотел ехать в Россию и говорил как совершенный антикоммунист, так что вряд ли он вернулся из-за коммунистических убеждений, скорее всего, просто из-за тоски по родине. Жизнь вне России теряла для него всякий смысл, а блага европейской цивилизации для него мало что значили. При мне Шаляпин привозил к нему известных французских писателей и других знаменитостей, а ему было с ними скучно, он не понимал этих людей. Даже я, маленькая девочка, это замечала и много раз слышала, как мама с папой то же самое говорили. А вот когда мы с ним ходили в лес за грибами, он сразу оживлялся. В Италии у него, казалось бы, было все необходимое для работы, денег он имел достаточно, и климат очень подходил для его здоровья, и все же он уехал назад в Россию. Но, во всяком случае, после своего возвращения он, как и прежде, очень многим помогал выехать за границу, в том числе и моим родителям. Его первая жена, Пешкова, была председателем Красного Креста при советчиках и тоже очень многим помогла уехать. Она также много хлопотала о тех, кто находился в лагерях.
2
Приехав во Францию, мы сначала остановились у бабушки в Ницце, а потом перебрались в Париж. В Ницце было много русских эмигрантов, и дети некоторых из них, из окружения моей тети, приступили к нам с расспросами. Все как один спрашивали, правда ли, что в России по городам ходят волки. Еще расспрашивали о советской школе и о том, как нам преподают на уроках географии: "Польша, какая это страна?" "Как это какая? - не понимали мы. - Польша!" - "А нас учат, что она все еще Россия". Узнав про такие наши разговоры, русские мамаши этих девочек испугались, как бы мы не привили их детям "советских" взглядов, и запре-тили им с нами дружить. Русская эмиграция в большинстве своем тогда мыслила очень узко, людям казалось, что вот скоро они вернутся в Россию и, как прежде, будут пить у себя в деревне, то есть в своих имениях, конечно, чай из самовара. Они не знали, или не хотели знать, что та Россия, куда они мечтали вернуться, существует только в их воображении, что нет больше не только их имений, но, может быть, и самих деревень. Нам, видевшим столько ужасного в этой новой России, дико было слышать эти вопросы о волках, бродящих по городу, потому что действительность была страшнее волков, не говоря уже о заявлениях о том, что Польша - это Россия. Да, она была частью Российской Империи, ведь и Финляндия была ее частью, но давно уже перестала ей быть. Тут как раз то, чему нас учили в классах, было правдой.
Когда мы приехали к бабушке с тетей, я познакомилась у них в доме с одним американцем ирландского происхождения, который был с ними очень дружен, знал их уже давно и много помогал им. Он был женат на русской, с которой венчался в русском соборе в Ницце, но брак этот оказался не из счастливых, и он как раз ко времени нашего приезда разводился - конечно, не из-за меня. Из Ниццы мы вскоре переехали в Париж, и, когда мы как-то раз опять поехали на Корсику навестить друзей, он, узнав о нашем приезде, пригласил нашу семью на несколько дней к себе на виллу. Так мы с ним подружились. К тому времени он уже получил развод. Погостив в Ницце, я поехала на Корсику, а он должен был ехать в Польшу. Прибыв в Варшаву, он решил отправить мне телеграмму из гостиницы. Услышав фамилию "Багратион", сбежался весь персонал гостиницы, стали его расспрашивать, кому именно из Багратионов он пишет, кто еще из нашей семьи остался жив. "Багратионы - это были наши лучшие клиенты", - вздыхали они и, видимо, рассказали ему о нас много хорошего, потому что он тут же приписал в телеграмме, что хотел бы приехать на Корсику, чтобы снова увидеться. Через некоторое время я вышла за него замуж, и мы поселились на Лазурном берегу, в Ницце.
Он был намного старше меня. Это был хороший человек, он очень многим помогал, так же как и его родители (по вероисповеданию они были протестанты), которые на свои средства построили несколько церквей. И вместе с тем это был очень трудный человек. Мы с ним недолго прожили вместе, скоро расстались, когда наша дочка Элен была еще совсем маленькой. Во время войны немцы арестовали его как американского подданного и отправили в лагерь, где он умер от голода. До войны мы не успели завершить развод, во Франции документы были оформлены, а в Америке еще нет, поэтому в бумагах я после его смерти значилась вдовой.
Когда началась война, друзья из Испании помогли мне с девочкой выехать туда. Чуть позже к нам приехал мой брат, недавно овдовевший, привез мне своего сына, и этого мальчика я воспитала. Одновременно приехали наши родители. Вскоре после моего приезда в Испанию у меня произошла одна неожиданная встреча. Как-то случайно я разговорилась с местным священником, и он мне вдруг сказал: "Одна семья очень хочет с вами познакомиться. Их бывшая француженка раньше служила в вашей семье, и она много им рассказывала о вас". Эта француженка преподавала французский язык... генералу Франко. Так мы с ним познакомились. О Франко говорят и пишут много несправедливого. У меня была возможность убедиться в том, что это был истинный патриот своей страны, человек глубоко верующий и очень умный. Он, безусловно, спас Испанию. Он поднял ее социально, создал в ней средний класс. Это то, о чем все его обвинители забывают: в Испании были люди или очень бедные, или очень богатые, а среднего класса не было вовсе. И он его создал: именно он начал первые социальные преобразования, развернул строительство, поднимал заводы, фабрики. В этой стране не было безработицы. Там можно было ходить по улице среди ночи, не боясь, что тебя ограбят. Многие считали, что сразу же после окончания гражданской войны он должен был передать власть королевской семье: Франко был военным и, как все военные, присягал королю. Он первый заговорил с нами на эту тему. "Я не могу этого сделать, пока я не укреплю страну", - сказал он. Но Испанию он декларировал королевством, вызвал молодого наследника, воспитал его в самых лучших условиях. К сожалению, человек, которому он все поручил после своей смерти, - Карреро Бланко, - был сразу же убит. Франко отказался войти в войну на стороне немцев, хотя единственными, кто ему помогал во время гражданской войны, были итальянцы и немцы. Он очень ловко отговорился тем, что Испании невозможно после войны гражданской снова воевать, и остался в стороне. А воевавшая на стороне немцев голубая дивизия, "Дивизия Азуль", состояла из добровольцев, поехавших в Россию воевать с коммунистами. Воевать с ними хотели было в начале войны и многие русские, но они скоро увидели, что эта война идет не так, как они себе представляли, что немцы хотят сделать из России колонию - из-за чего, собственно, они эту войну и проиграли.
Франко вдавался во все мелочи - и делал удивительные вещи. Например, в стране было очень мало автомобильных дорог. Он проложил дороги, и это в те годы, когда ему никто не помогал, все страны его бойкотировали, и он не мог эти дороги заасфальтировать. Но он их приготовил, и они так и стояли до тех пор, пока не улучшились отношения с другими странами. Тогда он получил гудрон и залил им уже готовые дороги. Перед смертью он написал обращение к испанской молодежи, своего рода завещание, в котором призывал народ следовать по тому пути, на который вышла Испания. Ведь и той "социалистической" Испании, какова она теперь, без него бы не было. Конечно, из всех стран, где у власти находится социалистическое правительство, Испания, пожалуй, наименее левая: все-таки там есть король и королева, которые очень много работают на благо этой страны, и хотя прав они никаких не имеют, но моральное влияние и значение их очень велики. Здесь, безусловно, играют роль и их личные качества, "персонналитэ", как говорят французы, их доброта, например, за что их любят не только в Испании, но и в других странах. Так что, даже в стране с социалистами у власти, они способствуют укреплению ее как внутреннего, так и международного положения, и возможно, если бы их не было, то Испания не достигла бы того уровня, который она имеет теперь.
Испания мне очень понравилась. Это страна, где еще живы давние традиции, обычаи и суеверия. Помню, как-то я присела отдохнуть на улице - это было в порту, на острове Ибица, возле дороги, по которой на большой скорости проносились машины. Дети, очень живые, подвижные, напоминавшие мне наших грузинских детей, с визгом носились тут же по улице, то и дело выплескиваясь на дорогу, прямо под колеса машин. К моему удивлению, взрослые, их матери и няньки, сидели неподалеку на скамейках возле своих домов, вязали, вышивали и спокойно разговаривали, не обращая никакого внимания на это опасное озорство. Я не выдержала, подошла к ним и сказала: "Как же так, почему вы не смотрите за своими детьми, неужели вы не боитесь, что они попадут под машину?" "Нет, сеньора, - возразили мне они, - ничего с ними не случится, ведь они еще маленькие, у них и грехов-то нет, поэтому черт их охраняет. Вот когда они подрастут, поднакопят грехов, тогда, конечно, надо будет за них беспокоиться, потому что у черта будет надежда заполучить их в ад". Сраженная этой философией, я не нашла слов, чтобы им ответить.
Вскоре после окончания войны мой брат собрался вступить в брак с инфантой Мерседес, дочерью инфанта дона Фернандо, и в семье невесты возник вопрос о равнородности этого брака. Ею был послан запрос Главе Российского Императорского Дома, Великому Князю Владимиру Кирилловичу, который прислал положительный ответ, признав, таким образом, через полтора века царское достоинство старшей линии семьи Багратионов, о котором в России долгое время не то чтобы умалчивали, а просто предпочитали не упоминать. Но в Грузии об этом никогда не забывали, и с утратой царского титула Багратионы никогда не примирялись. После присоединения Грузии многие из Багратионов переехали в Россию - не все: некоторые уехали в Персию и верно служили русским царям, но именоваться светлейшими не пожелали, в отличие, например, от князей Дадиани, которые этот титул акцептировали. Дед мой всегда был верен Императору, но считал, что с Грузией поступили неправильно: ведь многие королевства, великие герцогства или княжества теряли свою независимость, входя в состав других государств и империй (в Германии и Италии их немало), но все они сохранили свои титулы, на которые имели право. Например, Пармская династия имеет те же права, что и королевские семьи, их не принизили, не сравняли с другими (21). У нас в семье часто об этом говорили: говорили, что, если бы Багратионы сохранили титул, на который они имели все права, это не значило бы, что Грузия не вошла бы в Российскую Империю, напротив, если бы эта историческая фамилия, которая царствовала в течение стольких веков, сохранила свое царское достоинство, это имело бы только положительное значение. Кстати, несмотря ни на что, популярность нашей семьи и на моей памяти была очень велика. При советской власти имел место курьезный случай. Тогда как раз пошла мода менять фамилии, и вот огромное количество людей, чуть ли не половина Грузии, пожелали поменять свою фамилию на Багратион. Властям пришлось специально давать разъяснение, что эта фамилия историческая и ее присваивать себе никому не разрешается, а можно брать любую другую.
История последних двух столетий Грузии была для нас живым преданием, мы знали ее от старых бабушек и дедушек, потому что все без исключения семьи не наблюдали ее со стороны, но пережили, и пережили болезненно, живя десятилетия с чувством, что их унизили. А происходило это оттого, что многое делалось необдуманно. Закрыт был грузинский университет. Это означало, что семьи должны были расставаться со своими детьми, иначе невозможно было дать им образование - их приходилось посылать учиться в Россию. А поездка в Россию по тем временам была непростой, надо было ехать на фаэтонах почти две недели. Так матери теряли своих детей, иногда навсегда. Это, конечно, не нравилось. Горные страны очень держатся за все национальное. Сыграло свою роль и то, что не всегда присылали из России умных, тактичных людей, и то, как бездумно подчас раздавались княжеские титулы. Ведь древних княжеских родов у нас было совсем немного, настоящих грузинских князей можно по пальцам перечесть. Остальные же девяносто процентов княжеских титулов получены были от русских. Это была большая ошибка. Если бы дали другие титулы, создали бы новых графов или баронов, это было бы лучше воспринято. А так князей оказалось чуть ли не больше, чем простых дворян. Да и сами эти новые князья, бывало, стеснялись признаться при моем отце, что они князья.
И вот теперь, через столько лет, как все это сказалось! К нам в последние годы часто приезжают грузины, и я узнаю, что в Грузии перестают говорить по-русски, а ведь большинство знает русский язык. И все это только оттого, что когда-то проводилась эта неудачная политика. Узнаю, что восстановлено любимое имение моего отца, Чадиджвари, что о нашей семье сделан фильм. Мне теперь часто задают вопрос, как я отношусь к независимости Грузии, и мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я говорю, что очень люблю свою страну, но я вышла замуж за русского и должна проводить российскую политику. Да Россия и никогда не была для меня чужой, ведь у меня русская бабушка.
3
Как-то раз одна испанская семья, из моих новых знакомых, пригласила меня посетить их имение, у них были виноградники, и они делали хорошее вино. У них в гостях я и познакомилась с Великим Князем Владимиром Кирилловичем, который недавно приехал через Швейцарию из Австрии и жил сначала у своей тети в Сен-Лука. До этого я видела его только один раз, да и то издалека. Это было в Париже, в начале войны, и показала мне его одна моя знакомая, которую я тогда считала своей лучшей подругой. Было это в одном парижском ресторане, куда мы зашли с ней пообедать. Тогда в Париже уже были трудности с продовольствием, но многие рестораны, благодаря черному рынку, процветали, в том числе и этот русский ресторан, который не испытывал недостатка в клиентах: многие шли туда пообедать или поужинать. Только мы с ней сели за столик, как она, нагнувшись ко мне, быстро зашептала: "Вон, вон, смотри, за кого я хотела бы, чтобы ты вышла замуж - это единственный человек, за кого я хотела бы, чтобы ты вышла!". Я посмотрела в ту сторону, куда она показывала, и, недолго думая, ответила: "Нет уж, не хочу, он мне совсем не нравится. Во-первых, он толстый (Великий Князь был тогда, действительно, немного полным), вон как лопает. А во-вторых, у него усы". И как она ни уговаривала меня познакомиться, я наотрез отказалась. Так мы тогда и не познакомились, и с тех пор я потеряла его из вида. И вот теперь, несколько лет спустя, мы встретились в Испании.
Когда мы с ним познакомились в Хересе, в семье Домек, и разговорились, Великий Князь понравился мне гораздо больше, к тому же он к этому времени похудел и сбрил усы. Сказалась трудная жизнь... Вскоре после знакомства он переехал в Мадрид, поселился в квартире, принадлежавшей его тете, работал переводчиком. Чувствовалось, что он был очень одинок, поскольку его тетя с семьей осталась в Сен-Лука, и в Мадриде у него никого не было. Он стал у нас часто бывать, и скоро мы решили пожениться. Узнав об этом, моя парижская подруга написала Великому Князю письмо, в котором передавала ему мои нелестные о нем отзывы. Вот такими иногда бывают люди, лучшие друзья. Мы поженились в Швейцарии, потому что в Испании тогда еще не было русской церкви; свадьбу мы сделали совсем маленькую: только мы и двое свидетелей, больше никого, потому что средств у нас больших не было, и мы считали, что должны были сделать или большую свадьбу, или никакой. После нашей свадьбы мы вернулись обратно в Испанию и провели медовый месяц на Майорке. Часть жизни мы прожили в Испании, которую мы оба полюбили и где у нас появилось много верных друзей. Нам было приятно там жить: во-первых, там не было советского посольства, во-вторых, все относились к нам с большим уважением, мы всегда могли спросить совета или встретиться с тем, с кем было нужно, если была необходимость. Франко и его жена были с нами постоянно в контакте, часто звонили по телефону и спрашивали, не надо ли чем-нибудь помочь, у нас завязались дружеские отношения, и как-то раз мы даже ездили с ним на рыбную ловлю, присутствовали на свадьбе его дочери. Впоследствии у нас всегда были очень хорошие отношения с королем Испании, мы знали его с ранней юности, он кузен Великого Князя.
После того как мы поженились, дядя Великого Князя, Великий Князь Андрей Владимирович, приехал со мной познакомиться. Он отвел меня в сторонку и сказал: "Первое, что я хочу тебе сказать: больше гадостей, чем говорили про Императрицу, никто никогда и ни о ком не говорил. Поэтому, что бы тебе ни делали, что бы тебе ни говорили, ты не обращай внимания. Исполни свой долг, помогай Владимиру". Так оно и получилось - с тех пор мы ни разу не расставались с мужем и даже ни одного письма друг другу не написали. Мы прожили всю жизнь очень дружно и счастливо. Были у нас в жизни всякие испытания, неприятности, были и потери, и зависть, и вражда, но содержанием нашей жизни всегда была наша страна, наши дети и наша дружба.
Мы узнали только годы спустя, что в это время в Советском Союзе была арестована моя сестра Мария. Когда наша семья выезжала, при помощи Горького, второй раз за границу, сестра была влюблена в одного молодого человека. В тот момент, когда мы уезжали, его не было в Тифлисе, он был осужден и сослан. Поэтому сестра поехала с нами во Францию, поступила учиться в Академию художеств в Париже, закончила ее, стала профессиональной художницей. Ее жених пробыл в ссылке три или четыре года, и все эти годы она с ним переписывалась. Когда его выпустили, она решила уехать к нему. Но, пока она добралась до Грузии, он встретил другую женщину, поэтому она за него не вышла, а вышла некоторое время спустя за другого, очень хорошего театрального художника, и сама тоже стала театральной художницей, делала эскизы костюмов к спектаклям.
Арестовали ее вскоре после нашей свадьбы - на улице, когда она выходила из дома, это было в Ленинграде. Арестовали неизвестно за что, некоторые думали из-за того, что узнали о моем замужестве. Она была сослана в Сибирь и вышла из заключения только после смерти Сталина. До места ссылки ехала почти что целый год... То, что она была художницей в театре, ее спасло, она не попала на лесоповал - каким-то чудом ее пристроили работать в библиотеке. Об ее аресте мы ничего не знали, она просто внезапно пропала, как в воду канула, и все девять лет ее заключения мы не имели о ней никаких сведений. Она написала нам только после освобождения, и потом мы уже переписывались. Мужу своему она из ссылки послала развод, написала, чтобы он не ждал ее. Он все же ее не оставил, все эти годы поддерживал ее, писал письма, посылал посылки. Но столько лет разлуки не прошли бесследно, и, когда сестра вышла из заключения, они жили порознь, хотя и оставались друзьями. Он был очень хороший художник и многому научил ее в живописи.
Когда сестра пришла в первый раз оформлять документы для выезда за границу по приглашению нашей матери, ее спросили: "Кого вы там хотите повидать?". Она сказала: "Мою мать". - "А еще кого?". - "Брата". - "А больше никого?". Она ответила: "Если это возможно, мне хотелось бы повидаться с сестрой...". - "Можете". А после ее возвращения они ей сказали: "Если бы вы нас не предупредили и все-таки встретились бы с сестрой, вас больше никогда не пустили бы за границу". Это было уже во времена Хрущева. С тех пор она несколько раз приезжала к нам, и никогда у нее в мыслях не было остаться за границей - в Советском Союзе у нее была работа, дом, друзья, вся жизнь. Там она и умерла, в Тбилиси, в квартире дома, принадлежавшего прежде нашим родителям, в 1992 году.
Мы прожили в Испании почти сорок лет, хотя каждое лето приезжали во Францию, в Сен-Бриак и иногда в Париж для встречи с русскими монархистами. В первые годы после войны мы не ездили во Францию, потому что у власти там было очень левое правительство. В Испанию также в те годы приехал жить сын бывшего президента одной маленькой латиноамериканской страны, долгое время, лет около десяти, остававшегося у власти. Сын этот построил себе настоящий дворец, о котором рассказывали прямо сказки, будто бы в подвалах там были целые склады сокровищ - золота и драгоценностей. Как-то этот человек повстречал одного русского, нашего хорошего знакомого, и спросил его: "Это правда, что здесь живет Глава Императорского Дома, наследник российского престола?". - "Да, правда". - "Правда ли, что он без денег, что у него нет капитала?". - "Правда". "Как же так? - изумился сын президента,- неужели такое возможно? Мой отец был всего десять лет у власти, и не только мы обеспечены на всю жизнь, но и все наши родственники и друзья. А эти Романовы правили страной триста лет и ничего не вывезли?!". Наш знакомый рассказал ему, как Император Николай II, у которого были деньги в Англии, наоборот, ввез их в Россию, когда началась война, и многие члены семьи поступили точно так же. Тот был потрясен.
Когда обстановка во Франции сделалась спокойнее, мы смогли вернуться в наш дом в Бретани, куда мы ездили потом уже каждый год. Мы постепенно привели дом в порядок, восстановили обстановку. Великий Князь очень любил свой дом, это было его родовое гнездо, с которым у него было связано столько воспоминаний. Жители поселка относились к нам с большим уважением. Мы уже несколько лет были женаты, но у нас все не было ребенка. Как-то раз мы были в Италии, и мне вдруг захотелось поехать в Бари, где есть церковь Святого Николая. Я очень люблю этого святого и никогда не расставалась с его иконой. Мы поехали туда, зашли в храм, я помолилась - и девять месяцев спустя родилась Мария. Удивительно, девять месяцев спустя, день в день. С тех пор, когда мы бываем в Италии, всегда стараемся съездить туда. Святого Николая католики с недавних пор не почитают святым, как православные; та часть храма, где он погребен, занавешена, но, когда мы приезжаем, нас туда пропускают.
С самого раннего детства мы стали учить нашу дочь русскому языку, читали ей русских классиков, сказки, а чуть позже книги по русской истории. Часто приглашали русских дам сидеть с ней, играть, потому что я считала, что надо начать с ней разговаривать по-русски очень рано. И вдруг случайно я познакомилась в одном магазине с девушкой, прекрасно говорившей по-русски. Мы разговорились - она оказалась испанкой, родившейся в России. Там она провела детство и юность, была гимнасткой, профессиональной спортсменкой, даже участвовала в Олимпийских играх. Когда она приехала жить в Испанию, ей не удалось пробиться в профессиональный спорт и пришлось искать любую работу, давать уроки. И я взяла к себе эту девушку с тем, чтобы она занималась с нашей дочкой. Как-то раз спрашиваю Марию: "Ну что, хорошо с тобой занимается твоя учительница?" - "Да, хорошо, одно только плохо: она не хочет играть в царицу и носить мой шлейф...". Потом я выдала эту девушку замуж, у нее теперь давно уже дети. Она до сих пор продолжает считать себя русской, такую любовь сохранила она к России. Дети ее, чистокровные испанцы, все говорят по-русски, дома у нее готовятся русские блюда, а сама она, хотя ее и зовут Пахитой, неохотно откликается на свое имя и просит называть ее Надей. Надя-Пахита занималась с Марией несколько лет, пока та не поступила в английскую школу в Мадриде. После окончания этой школы она поступила в Оксфорд, где провела четыре года, изучая русскую историю и литературу и испанскую историю. Она оказалась очень способной к языкам, так же как и ее отец, и теперь свободно говорит на пяти языках.
4
К тому времени, когда наша дочь собралась выходить замуж, было уже ясно, что мужская линия дома Романовых в недалеком будущем неизбежно должна будет прерваться, поскольку все остальные члены Императорской семьи, следовавшие за Великим Князем по порядку престолонаследования, состояли в браках морганатических, то есть неравнородных, и дети их наследовать им не могли. Все они были старше самого Великого Князя, и после их смерти (последний из них, Князь Василий Александрович, умер три года назад) наследницей престола становилась наша дочь. Поэтому обязательным условием брака нашей дочери был переход ее жениха в православие, иначе Мария не вышла бы за него замуж. Так, например, и муж королевы английской, греческий принц - православный, должен был перейти из православия в англиканскую церковь, прежде чем он женился на королеве. И жених нашей дочери, принц Франц-Вильгельм Прусский, выразив готовность войти в нашу семью, еще до бракосочетания перешел в православие. Поэтому, выйдя замуж, наша дочь не сделалась принцессой прусской, а напротив, ее муж, получив от ее отца великокняжеский титул, стал именоваться Великим Князем Михаилом Павловичем (22). Они познакомились в семье сестры Великого Князя Киры Кирилловны, муж которой, второй сын кронпринца Вильгельма, стал главой династии. Франц-Вильгельм был внуком младшего сына кайзера. До свадьбы он жил в Германии, там и учился. Поженившись, они год провели в Париже, затем перебрались в Мадрид. Об этой свадьбе промелькнуло сообщение даже в советской прессе. Это было в 1976 году, тогда книги и журналы из-за рубежа стали проникать в СССР, и там уже не могли замалчивать сам факт нашего существования. Правда, сообщение это было довольно язвительным и, к тому же, неграмотным: писали, что венчание было в фальшивых коронах. Да, конечно, короны все остались там, но ведь их надевали при венчании на царство, а невесте при венчании полагается диадема (раньше надевали кокошник). Те же венцы, что держат над головами жениха и невесты, - это венцы церковные, те же самые, что и при венчании всех других людей. Вообще-то, такой подход к событиям показался мне совсем детским. Я вспомнила, как когда-то давно в Испании - мы тогда только что поженились - к нам в гости привели маленькую девочку, которая, увидев меня, горько заплакала: ей говорили, что она идет в гости к царице, а царица оказалась без короны, а главное, без шлейфа...
В 1981 году родился наш внук Георгий, это было огромной радостью для нашей семьи. И с той же радостью я теперь вижу, что наша дочь воспитывает мальчика в том же духе, в каком мы воспитывали ее. Тут я тоже настояла, чтобы первым языком у него был русский, и теперь мальчик хорошо его знает, читает русские книги - библиотека у нас очень большая, начало ей было положено еще бабушкой Великого Князя Марией Александровной, дочерью Императора Александра II, вышедшей замуж за герцога Кобургского. Ей в Кобург посылались из России все самые значительные издания, и после нее осталась прекрасная библиотека. Какая-то часть этих книг пропала. После продажи дома книги хранились у герцогов Саксен-Кобург-Готских, а во время войны Великий Князь попросил их передать большую часть библиотеки в концентрационные лагеря, чтобы русским пленным было что читать. После войны уцелевшие книги вернулись к нам, и их было все еще очень много. Церковные книги мы отдали в Синод, а периодические издания гораздо позже передали некоторым любителям литературы, в частности Ростроповичу, когда он оказался за границей и ему пришлось заново собирать библиотеку: нам самим было трудно хранить такое количество книг, и мы рады были, что они кому-то послужат. И все равно после всего этого осталась большая библиотека, которая постоянно пополняется новыми книгами, по ним училась наша дочь и вот теперь уже внук.
В Сен-Бриаке также хранится часть нашего архива (другая часть, в основном переписка, находится в Англии), и в распоряжении нашего внука целый музей: я доверяю ему семейные фотографии, и он иногда часами их рассматривает и уже много знает о своих прабабушках, прадедушках, Царской семье. Императора Николая II в семье звали Ники, и он тоже зовет его дядей Ники. Однажды ко мне зашла знакомая с маленькой собачкой, которую, как нарочно, звали Ники, и он был очень возмущен: "Бабушка, как же можно называть собачку дядей Ники?" Мы его успокаивали, объясняя, что собачку зовут не "дядей Ники", а просто Ники. Он очень добрый мальчик, забавный и невероятно общительный. Я всегда счастлива, когда он со мной, и мне бывает так грустно, когда его увозят.
Когда Мария разъехалась с мужем, мы увезли ее с мальчиком в Сен-Бриак, и какое-то время оставались там все вместе, чтобы ей не было так тяжело. Маленькому Георгию в Бретани очень нравилось: там у него было море, деревенская природа, свой дом, в котором в его лице оказалось уже четвертое поколение нашей семьи, и присутствие деда, который был его лучшим другом. Там он стал ходить в детский сад, и наша собака тоже ходила вместе с ним. Обедать он приходил домой. Как-то он капризничал за обедом, и Великая Княгиня ему сказала: "Вот я не буду забирать тебя обедать, будешь возвращаться домой вечером". Но наказания не получилось, потому что в первый же день, когда его там оставили, ему так понравилось, что он заявил, что не будет больше приходить домой обедать, потому что ему там веселее с ребятишками. Так и ходил в сад на целый день, пока не пришло время отдавать его в школу. Сначала мы отдали его в школу в Париже. Занятия во французских школах начинаются в половине девятого, приходил он домой около шести, очень усталый, и еще надо было делать уроки. Из школы ребенок приходил почему-то всегда огорченный: как он ни старался, ему говорили: "Да, хорошо, но ты мог бы сделать еще лучше". Может быть, у французских педагогов такой метод, но мне представляется неправильным, когда детей совсем не хвалят за успехи, не поощряют. Как раз тогда моя дочь поехала в Испанию и случайно встретила директора той школы, в которой сама училась. Он предложил перевести мальчика к нему. Мы решили попробовать, потому что школа эта очень хорошая, английская, в классах по двенадцать-пятнадцать человек, и учителя имеют возможность заниматься с каждым ребенком. Во Франции обычно классы в школах вдвое больше. Мы повезли Георгия в Мадрид, он сдал экзамен, поступил в эту школу и уже за первый триместр так выучил английский язык, что стал учиться не хуже других детей. И самое главное, что учиться ему нравится. Так и по-лучилось, что теперь из-за школы моя дочь с мальчиком живут постоянно в Мадриде, и благодаря этому он знает уже четыре языка: русский, испанский, французский и английский. Способности к языкам у него, как у Деда.
Теперь мы встречаемся чаще всего летом и в праздники в Сен-Бриаке. Настоящий мальчик, мой внук очень увлекается техникой, сразу разбирается, как включать любую современную аппаратуру, так что я часто зову его, чтобы он мне показал. "Бабушка, - гордо говорит он мне, - теперь нам в школе преподают алгебру и геометрию!". - "И кто же тебе помогает? Мама?". - "Ну что ты, бабушка, разве она в этом понимает, уж я ей объясняю, объясняю...". Он очень забавный. Как-то приходит и спрашивает: "Что такое акции?". Я ему объяснила, что это такое, потом говорю: "А почему ты спрашиваешь?". Тогда как раз американцы строили под Парижем парк "Диснейленд". По телевизору он увидел рекламу этих акций. "Почему ты не купишь, бабушка?". Я ответила, что, во-первых, это дорого стоит, во-вторых, дело это новое, неизвестно, что из него выйдет. Ушел. Через две недели: "Бабушка, зачем ты меня не послушалась!". - "А что такое?". - "На двадцать пять процентов поднялись эти акции!". Восемь лет ему тогда было... Мне кажется, что дети теперь быстрей развиваются, чем раньше, - и телевидение этому способствует, и даже, может быть, малые размеры современных городских квартир, где дети постоянно оказываются рядом со взрослыми.
Летом мы подолгу живем вместе в Сен-Бриаке. Нашу семью там очень любят. Жители города поставили очень красивый памятник моей свекрови, Великой Княгине Виктории Федоровне - это ее бюст работы одного из лучших бретонских скульпторов. Он стоит возле дома одной ее близкой знакомой, женщины, владевшей теперь уже почти забытым искусством инкунабулы, старинным способом книжной печати. Великая Княгиня часто бывала у нее в доме, они вместе работали и выпустили вместе книгу с иллюстрациями Виктории Федоровны, отпечатанную этим старинным способом. После ее смерти эта женщина велела заделать в ограде сада главные ворота. "Здесь,- сказала она, - никто больше не пройдет" - и перенесла вход в другое место, а на месте прежнего входа и стоит теперь памятник Великой Княгине.
К нашему дому от большой улицы вела дорожка, без названия, но все жители городка называли ее дорогой Великого Князя. И вот несколько лет назад к нам пришел мэр Сен-Бриака и сообщил, что было собрание и все жители единогласно проголосовали за то, чтобы официально присвоить это название нашей улице - и повесили табличку. Даже коммунисты все проголосовали "за". Очень большое впечатление это событие произвело на маленького Георгия, который никак не мог добиться, кого при этом имели в виду: дедушку или, может быть, его?
Мы очень любили путешествовать, и за нашу долгую и счастливую жизнь, сорок четыре года, побывали во многих странах, даже в таких отдаленных уголках земного шара, как Аляска или Шпицберген. У нас было много интересных встреч - и с королевскими семьями, и с известными писателями и художниками, с дипломатами и государственными деятелями. Одной из последних была встреча с Ельциным, которая состоялась по его приглашению в резиденции посла России в Париже. Это было во время его визита во Францию уже в качестве президента, и эта встреча была очень интересной. Он произвел на нас впечатление человека, пожалуй даже застенчивого, но искренне любящего свою страну. Великий Князь после этой встречи сказал, что, он, может быть, сыграет положительную роль - конечно, все будет зависеть от людей, которых он выберет себе в помощники, потому что один человек, как считал Великий Князь, сделать ничего не может, но положительным было уже одно то, что он сделал решительный шаг, отказавшись от коммунистической доктрины, от советского режима, чего не сделал его предшественник Горбачев, хотя и говорил о перестройке.
5
Сорок четыре года назад, когда мы встретились с Великим Князем, когда он, вынужденный покинуть сначала свой дом во Франции, затем дом сестры в Германии, добрался, наконец, до Испании, у него уже не было ни секретариата, ничего - одни чемоданы, полные бумаг и писем. Его прежний начальник канцелярии Граф уехал в Америку, а полковник Синявин, сменивший Графа и находившийся вместе с Великим Князем в Германии и Австрии, а затем приехавший с ним в Испанию, чудесный, очень образованный человек, должен был вскоре по семейным обстоятельствам уехать в Аргентину. И я помогла Великому Князю снова организовать канцелярию, стала помогать в делах - и теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что нам выпало редкое счастье, потому что мы оба прожили все эти годы с одним желанием, с одной мыслью - о нашей стране, и это очень помогало нам вместе работать.
С первых дней нашего брака мы старались поддерживать связь с русскими эмигрантами - хотя, конечно, далеко не вся эмиграция была монархически настроена. Но, что удивительно, те редкие контакты, которые нам удавалось иметь в те годы с Россией, уже тогда показали нам, что в России существует интерес к монархии, хотя из разговоров с приезжавшими к нам людьми мы поняли, что в России тщательно скрывался сам факт, что кто-то из Императорской семьи остался в живых, и многие были очень удивлены, узнав о существовании за границей Главы семьи. После же нашего первого посещения России по приглашению мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака интерес к монархии и к нашей семье просто вспыхнул, к нам посыпались письма из самых разных городов и, главным образом, от молодежи. Мы с Великим Князем всегда старались отвечать на все письма, которые получали. И вот, читая эти письма, мы увидели, какой интерес вызывает сейчас у нас в стране роль, которую сыграла монархия в истории России, и почему эта форма правления столь близка пониманию многих русских людей - людей, которым дороги не только земные блага и денежный успех, но и будущее своей страны. И теперь, хотя я все время думаю, что Бог призвал к себе Великого Князя слишком рано, мне все же отрадно, что мне удалось перевезти его прах на родину, как он того желал, и похоронить среди его предков в Петропавловском соборе, где, я надеюсь, скоро будут погребены наши Святые Царственные Мученики.
Кроме русских, у нас, конечно, очень много друзей и знакомых, а также родственников, близких и дальних, в самых разных странах. Прежде всего это королевские и владетельные семьи Европы. Ведь почти все королевские дома, через королеву Викторию или как-нибудь иначе, состоят в родстве. Мы очень дружны с Испанской, Португальской, Итальянской королевскими семьями. Конечно, чаще всего мы видимся с членами тех семей, которые, как и мы, проживают во Франции, Испании или Португалии. Английская королева очень мило помогла нам устроить нашу дочь в Оксфорд. Очень теплые отношения у нас с Болгарской, Греческой, Югославской семьями. Болгарская царица-мать - крестная мать нашей дочери, а король Греческий, с которым мы тоже в родстве (тетя Великого Князя, Елена Владимировна, была замужем за принцем Греческим), - крестный отец Георгия. Болгарская семья имеет сейчас резиденцию в Швейцарии и дом в Мадриде, а до этого они жили в Египте; после брака царя его мать переехала на жительство в Португалию, где жил ее брат, Итальянский король Умберто. Король Греческий, после того, как ему пришлось покинуть Грецию, имеет резиденцию в Англии, хотя часто навещает свою сестру, королеву Софию, в Испании. Король Румынский также наш близкий родственник, его бабушкой была Румынская королева Мария, сестра матери Великого Князя, но отношения у нас не такие близкие, как могли бы быть, - здесь уже наложились отношения Румынии с Россией.
Раньше, когда еще были живы другие члены нашей династии, мы со многими, конечно, дружили, часто встречались. Великая Княгиня Ксения Александровна и ее муж были в прекрасных отношениях с моим свекром, Великая Княгиня Мария Павловна младшая после своего развода с принцем Шведским часто к ним приезжала, приезжала потом и к нам, мы с ней были очень дружны. Очень близкие отношения были у нас с Великим Князем Андреем Владимировичем, дядей Великого Князя, он нас очень любил - плакал от радости, когда родилась наша дочь Мария, и был ее крестным отцом. И нам он тоже был очень дорог и близок. Жена его, знаменитая балерина Кшесинская, в браке княгиня Романовская-Красинская, была человеком безусловно преданным нашему дому. Сын их, Владимир, умер, не оставив потомства, И вот, в настоящее время, от еще недавно многочисленного дома Романовых, осталась одна наша семья, потому что все остальные дети Князей и Великих Князей, ныне здравствующие, происходят от браков морганатических. По российским законам, те из них, кто просил разрешения на брак, могли именоваться светлейшими князьями Романовскими. Те же из них, кто этого не делал, оставались просто господами Романовыми. Фамилии же "князей Романовых", которую они теперь носят, в России никогда не существовало. Есть династии, в чьих законах брак с членами только королевских или владетельных семей не считается обязательным условием, например Болгарский царский или Бельгийский королевский дома. В нашей династии Багратионов это тоже не было обязательным условием. Была лишь традиция брать девушек из хороших семей, очень частыми были браки между дальними родственниками, поскольку Багратионов было много - Карталинские. Кахетинские, Мухранские, Имеретинские, все они были в родстве, это была та же династия. Но в российских законах условие это было обязательным. В эти законы, исходя из конкретных исторических условий, вносились иногда поправки, для членов Императорской семьи, сравнительно далеких от престолонаследования, допускались некоторые послабления, но в отношении морганатических браков закон оставался незыблемым. И, исходя из этого закона, следующими в порядке престолонаследования за моей дочерью и ее сыном идут дети сестер Великого Князя, сначала Марии Кирилловны, затем Киры Кирилловны. Обеих теперь уже нет в живых. Старшую, Марию Кирилловну, я особенно любила, она и умерла у меня на руках. Всю жизнь она оставалась удивительно русской. После нее осталось семеро детей, и теперь уже внуки; и четверо сыновей, из которых сейчас живы трое, было у Киры Кирилловны.
ЭПИЛОГ
Спустя несколько месяцев после нашей поездки в Россию Великий Князь скоропостижно скончался во время пресс-конференции в Майами. Это случилось на Пасхальной неделе, за день до того, как он должен был выступить перед американскими деловыми кругами с речью, посвященной вопросу помощи России и прочитанной в связи с его кончиной князем Урусовым. Все эти месяцы после нашего возвращения во Францию он жил только этой встречей с родиной и с народом, и все его мысли были об одном: как бы им помочь - он прежде всего думал не о монархии, не о своей короне, он понимал, что монархия не может быть восстановлена так быстро, как он, может быть, того желал, хотя он и считал, что она была бы на благо не только русскому народу, но и Европе и всему миру и могла бы удержать страну от распада, потому что из разговоров с людьми из других республик он понял, что они не столько хотят выйти из империи, сколько стремятся избавиться от коммунизма, но самой главной его целью было найти способ помочь России. И помочь загранице понять, что такое Россия и какую роль она может сыграть. И вот, в последние свои дни, он согласился на эту конференцию в Майами и в продолжение трех месяцев ее готовил.
Конференцию эту устраивает ежегодно один из самых крупных американских банков, и на нее собираются банкиры и промышленники, ученые, писатели. Каждый год они приглашают выступить кого-то из государственных деятелей, известных людей - и в том году пригласили Великого Князя. Это приглашение было следствием возросшего интереса к России, к происходящим в ней переменам, к возможным путям ее развития и желания понять, чего ждет от заграницы Россия, что та могла бы ей дать и в какой форме надо ей помочь. И целью Великого Князя было это им показать, и я думаю, что он в своей речи эту задачу выполнил.
Мне тогда удалось настоять, чтобы его речь, ставшая посмертной, была прочитана. Устроители согласились, но поставили условие, чтобы в таком случае я присутствовала. Конечно, в тот тяжелый момент мне было очень трудно, но я сказала, что приду. Это было рано, в восемь часов утра, и я боялась, что, раз лекцию будет читать другой человек, а не он сам, половина из тысячи приглашенных не придет. Но получилось иначе: пришли тысяча двести человек, и в переполненном зале стояла удивительная, какая-то благоговейная тишина. И все восприняли эту речь с глубоким чувством. Помню, как подошли американцы кубинского происхождения и сказали, что в тот день они впервые почувствовали надежду, что, может быть, и Куба будет спасена.
Когда мы после первого и последнего визита Великого Князя в Россию покидали Санкт-Петербург, он на трапе самолета обернулся, перекрестился и сказал мне, что если с ним что-нибудь случится и его жизнь оборвется прежде, чем мы вернемся окончательно в Россию, то он хотел бы быть похороненным в Петропавловском соборе, как и положено по нашим законам. Он уже и прежде думал о том, как перевезти туда прах своих родителей, временно покоящихся в фамильном склепе Кобургских герцогов. И после его кончины я сообщила в Россию свое желание исполнить долг перед своим мужем - и президент Ельцин, и мэр Санкт-Петербурга сразу согласились. Думаю, что они также понимали, что возвращение Великого Князя во многом способствовало тому, что общество за границей повернулось лицом к России. Это открыло путь даже тем, кто еще сомневался, хотя в последние годы было уже видно, что с коммунизмом покончено, но многие боялись ехать туда, а он не побоялся и поехал, несмотря на то, что многие монархически настроенные круги эмиграции и русской зарубежной церкви были против его визита.
И эта встреча с Россией, которой мы ждали столько лет, явилась событием исключительной важности в жизни моей и Великого Князя. Еще в самолете, когда мы летели туда, я заметила, как он необычайно взволнован. И только он, сойдя по трапу, ступил на русскую землю, я увидела, как у него по лицу градом покатились слезы. Может быть, этот первый контакт был чересчур сильным для его возраста и состояния здоровья, но этот визит дал ему почувствовать самое главное. Он, всю жизнь веривший и надеявшийся, что русский народ его поймет и полюбит, чувствовал это во время всего нашего пребывания в Санкт-Петербурге, с каждым человеком, с которым довелось встретиться,- и с теми, кто нас принимал, и с теми, кто сопровождал нас, и с детьми в детском доме, куда мы приехали, нагруженные шоколадом, и где нам очень понравилось (девочки были нарядные, с невероятными бантами, а один мальчик посмелее подошел и спросил: "Это вы - батюшка-царь?" - и потом уже не разобрать было, сколько их пыталось взобраться к нему на колени). А после нашего возвращения жизнь у нас совершенно изменилась - гораздо больше русских стало приходить к нам, посыпалось множество писем - и письма были в большинстве своем от молодежи, студентов, и нам отрадно было видеть, что эти молодые люди ищут свою историю, любят свою страну, и в письмах этих была надежда, что Великий Князь их простит и поможет. Нас посещали все это время самые разные люди: ученые, военные, деловые люди, коммерсанты, очень много молодежи - люди, живущие для России и считавшие, что Великий Князь мог многое сделать для того, чтобы наша Родина вернулась к своей роли, к своей вере и к своему величию.
И я теперь часто езжу в Россию, продолжая ту работу, которую Великий Князь начал, и так же, как я проработала с ним сорок четыре года для нашей страны, я стараюсь сейчас помогать моей дочери, которая подготовлена была для этой деятельности своим отцом, и готовлю к ней уже внука. И каждое посещение нашей страны приносит нам и новое удовлетворение, и новое понимание. С каждым человеком, с каждым городом, где мы побывали, Россия становится нам все ближе. Нам хотелось бы иметь больше контактов с людьми, глубже проникнуть в частную, повседневную жизнь. Помимо очень интересных встреч в Москве и Петербурге, очень порадовали нас встречи в Костроме - оттуда, из Ипатьевского монастыря, призван был на царство Михаил Романов - и в Бородино, где во время празднеств нас пригласили на завтрак находившиеся там мэры разных русских городов - и такой удачный получился контакт, что они все просили нас посетить их города, что мы и сделали летом 1993 года, спустившись на теплоходе по Волге до Астрахани, посетив Сибирь. Очень интересными были встречи во время этого двухмесячного путешествия. Прием был такой радушный, что мы даже забыли, что живем за границей. Встречались мы и с казаками. Со всеми этими людьми мы теперь поддерживаем связь.
В один из приездов в Москву я посетила клинику, где рожают матери с больным сердцем, которым необходим особый уход и особые лекарства, - и, поскольку у меня есть возможность получать медикаменты, я стараюсь посылать им и в другие детские клиники лекарства, одноразовые шприцы, и я очень рада, что могу по мере сил оказывать какую-то реальную помощь. Патриарх просил меня взять под свое покровительство Марфо-Мариинскую обитель, и я теперь стараюсь им тоже помогать лекарствами и медицинским оборудованием. Мой внук Георгий всегда с нетерпением ждет, когда он снова поедет в Россию. Он очень интересуется всем, что связано с морем, военным делом, авиацией, и мы очень надеемся, что, если все будет благополучно и наши поездки будут продолжаться, он поступит в морское училище в Петербурге, где учился его прадедушка, или в суворовское в Москве. Сам он очень этого хочет и часто об этом говорит. За время его первого посещения у него сложились очень хорошие отношения с охраной, которая нас сопровождала, он был ужасно возмущен и сказал нам: "Неужели вы не понимаете, что это моя страна и что моя охрана меня ждет?!". Мы ему ответили, что занятия в школе тоже его ждут. Когда мы с ним в России посещали военные училища, музеи, я видела, что он очень быстро освоился и чувствует себя дома, на родной земле.
Как-то в один из моих приездов меня попросили дать телевизионное интервью, и это позволило мне рассказать всему нашему народу об истории нашей семьи, почему и как вышло, что права перешли к линии Великого Князя Владимира Александровича как следующего по старшинству брата Александра III, потому что находятся люди, которые говорят разное, и я надеюсь, что дала толковое объяснение. Во время этого интервью был еще вопрос, верю ли я в монархию,- и я ответила, что да, конечно, верю, что это наш исторический путь, хотя сегодня монархия не может быть такой, как прежде, но она вполне может быть современной. А может ли монархия сочетаться с демократией, спросили меня, и я опять ответила, что да, конечно, может, и не только с демократией, но даже и с социалистическим правительством, как, например, в Испании, монархия может прекрасно уживаться. И при всем том, что официально испанский король прав не имеет, но одно только его слово спасло от переворота, а его влияние, международные связи во многом укрепили положение Испании, дали ей новые возможности, и страна, которая прежде была в общем-то изолирована, вошла теперь на равных в содружество европейских стран.
Моя дочь, Великая Княгиня Мария Владимировна, с большим волнением следит за событиями в России; ею основан, совместно с мэром Санкт-Петербурга, благотворительный Мариинский фонд возрождения России, и я надеюсь, что он будет иметь успех, потому что он сделался уже международным, официально зарегистрирован в Америке, Испании, Франции, и мы рассчитываем в скором времени использовать средства, которые уже поступают на его счет, для помощи неимущим, и, может быть, удастся давать молодежи стипендии и делать много других полезных дел. Моя дочь сейчас много времени отдает этой деятельности.
В прошлый наш приезд в Санкт-Петербурге, в великокняжеской усыпальнице, после панихиды ко мне подошли журналисты, и одним из вопросов было: люблю ли я Россию? Странный вопрос. Я ответила им, что если бы я Россию не любила, я не приезжала бы сюда, и что каждый раз, приезжая, еще больше к ней привязываюсь. Что же касается нашего окончательного возвращения - многие уже выражают желание, чтобы мы уже сейчас вернулись в Россию окончательно, - то мы считаем, что это народ должен решить, хотят ли они, чтобы мы вернулись. Но, независимо от того, как дальше сложится жизнь, наша любовь и интерес к России - залог того, что мы будем там очень часто бывать.
Примечания:
1 - Альфред, герцог Эдинбургский, - второй сын английской королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского; унаследовал Кобург-Готский престол после пересечения немецкой линии кобургских герцогов.
2 - Причиной расторжения брака Кобургской принцессы Виктории-Мелиты с великим герцогом Гессен-Дармштадтским Эрнестом явились противоестественные наклонности герцога, о которых до брака семье невесты не было известно.
3 - История с красным бантом и по сей день кочует от одной публикации к другой с завидным постоянством, поэтому мы сочли возможным привести здесь свидетельство очевидца, опровергающее эту версию, а заодно обрисовывающее ситуацию в Петербурге вообще и в Таврическом дворце, в частности. Это отрывок из воспоминаний бывшего члена Государственной думы Б. А. Энгельгардта, опубликованный рижской газетой "Сегодня" от 14 апреля 1937 г. Б. А. Энгельгардт вспоминал: „Утром, 28 февраля, было опубликовано воззвание, извещающее население о том, что "...при тяжких условиях внутренней разрухи, Временный Комитет Гос. Думы нашел себя вынужденным взять власть в руки для восстановления порядка..."
Одновременно с этим комитет обратился к жителям Петрограда с призывом оберегать общественные учреждения и приспособления: телеграф, водокачку, электрическую станцию, правительственные места и учреждения, фабрики и заводы. Указывалось на недопустимость посягательства на жизнь и имущество частных лиц. (...)
Из разных концов России приходили известия о том, что переворот принимается всеми единодушно без сопротивления со стороны старой власти. В Думе начались переговоры о создании первого министерства. Временно, для принятия дел в различных министерствах, были назначены комиссары из числа членов Гос. Думы. Началось создание гор. милиции, во главе ее стал гласный Гос. Думы Крыжановский. Учащаяся молодежь горячо предлагала свои услуги для поддержания порядка в столице.
Совет рабочих депутатов 28 февраля как-то мало проявлял себя еще в целом. Он организовывался. В то же время он искусно использовал ту притягательную силу, которую, несомненно, имела в глазах населения Гос. Дума. И войска и толпы народа шли в Таврический дворец, хотели видеть Г. Думу, но там, мало-помалу, члены Совета рабочих депутатов заслоняли собой Вр. Комитет Гос. Думы.
Утро и день 1 марта явились своего рода апофеозом революции.
Все войсковые части Петроградского гарнизона стекались в Гос. Думу. Они шли в полном порядке, под звуки музыки, с развернуты-ми знаменами, со всеми офицерами на местах.
Во главе Гвардейского экипажа появился и Вел. кн. Кирилл Владимирович. Он зашел ко мне в кабинет. Вопреки существующим рассказам, у него не было на плече красного банта. Он казался удрученным, подавленным: очевидно, нелегко было двоюродному брату царя принимать участие в революционном шествии. Он все же решился на это, думая таким жестом сохранить в руках управление частью. Уже тогда он сознавал бесплодность своей жертвы".
4 - В своей книге "Происхождение закона о престолонаследии в России" (Издание русского Просветительного комитета в г. Шанхае, 1936 г.) епископ Шанхайский Иоанн дает следующую оценку закону о престолонаследии, действовавшему в Российской Империи: "...Павлу удалось дать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской. Поэтому он сразу нашел отклик в сердцах русского народа, и, начиная от членов Царской семьи, все заботились о том, чтобы не был нарушен тот порядок, который один мог дать успокоение стране, измученной неопределенностью престолонаследия в восемнадцатом веке".
5 - Из письма Великого Князя Александра Михайловича в "Нью-Йорк Герольд" от 26 ноября 1923 г.:
"Со строго государственной и юридической точки зрения, мы не имеем права считать Семью Царя, а также Великого Князя Михаила, погибшими. С другой стороны, если они не находятся в живых, то воп-рос о престолонаследовании (в случае восстановления монархии) не вызывает среди нас ни малейших разногласий, т. к. Российские Основ-ные Законы с полной ясностью указывают, что право на престол при-надлежит Старшему Члену Нашей Семьи, каковым является в настоя-щее время Великий Князь Кирилл Владимирович. Александр, Великий Князь Русский".
6 - Некоторый свет на политическую подоплеку этого конфликта проливают письма Великого Князя Андрея Владимировича.
Из письма Великого Князя Андрея Владимировича Великой Княгине Ольге Александровне от 11 октября 1924 г.:
"...Я не хотел вспоминать темного прошлого, но теперь не могу этого не сделать. Тебе самой должно быть хорошо известно, что, когда Ники решил вступить лично в командование Армией, он это сделал, имея в руках доказательства измены Николаши. Этот факт могут подтвердить еще живые свидетели. В 1917 г. его же телеграмма к Ники об отречении была последним ударом и сигналом к революции. Неужели этих примеров мало, да их еще много, и Ты их знаешь не хуже меня. Теперь же захотят придать голосу Николаши, голос, который уже предал Ники, преобладающее значение, против мнения и желания большинства всей семьи...".
Из письма Великого Князя Андрея Владимировича Великому Князю Кириллу Владимировичу от 16 сентября 1924 г.:
"...Недавно генерал Щербачев ездил по личным делам в Париж и как один из самых старых боевых генералов имел случай беседовать с Н. Н. Генерал Щербачев, как Ты сам хорошо знаешь, придерживается того же мнения, что, пока не будет достигнуто семейное объединение, всякое движение обречено на неуспех, что он в беседе с Н. Н. ему и высказал, указав при этом, что его долг перед Россией пойти на единение с семьей и что он несет ответственность за все последствия, вытекающие из отсутствия семейного единения. Из обмена мнениями выяснилось, что Н. Н. далеко не так непреклонен в этом вопросе, и, надо думать, в непродолжительном времени он окончательно усвоит мысль в пользу семейного единения и, главное, поймет необходимость в установлении с тобой нормальных взаимоотношений. Недавно я получил из другого источника подтверждение такого настроения Н. Н.".
Из письма Великого Князя Андрея Владимировича Великому Князю Дмитрию Павловичу от 11 октября 1924г.:
"...Ведь надо помнить, что вся эта кампания, поднятая теперь против Кирилла, ведется масонами через купленных ими людей. Сегодня свергнут Кирилла, завтра же повернутся против Николаши, а затем и против всех нас. Игра ВМС (Высший Монархический Совет) давно ясна, она ведется против совокупности всего нашего дома, но бьют поодиночке и по порядку. Ведь вся пропаганда с выдвижением Николаши была ведена с исключительной целью сломать Кирилла, и никто не думал всерьез считать Николашу народным героем. Вспомни откровенные мнения Маркова и Трепова у тебя на квартире, они тогда не постеснялись на это намекнуть. Сейчас получил из Сербии новое донесение, что недавно у Врангеля было совещание в присутствии ген. Миллера, Шатилова и Гольмсена, в котором рассматривался вопрос об окончательном провале имени Николаши в глазах армии. И это замышляют именно те генералы, которые в Париже составляют окружение Николаши и на помощь которых он так рассчитывает. Все это сплошное надувательство и мошенничество. Все ведется к тому, чтобы окончательным дискредитированием всей семьи перейти на идею выборной монархии из новой династии. Вот цель масонов, и эту программу выполняют патентованные монархисты, ими купленные. Так неужели же мы, зная все это, видя ясно, куда ведут, мы будем молчать и как бараны подставлять свою шею масонскому ножу. Это было бы чересчур глупо. Ошибочно думает Николаша, что, отвергнув Кирилла, он тем самым может свободно идти вперед...".
7 - Герцог Карл Саксен-Кобург-Готский приходился Великой Княгине Виктории Федоровне двоюродным братом, Кобургский престол он получил после смерти ее единственного брата. Бывший царь Фердинанд Болгарский, которого союзники заставили отречься от престола в пользу его сына Бориса, проживал постоянно в Кобурге после своего отречения, т.к. происходил из немецкой линии династии герцогов Кобургских.
8 - Приглашение поступило от одного дамского благотворительного общества, организовавшего поездку по стране и взявшего на себя все расходы по этой поездке, в ходе которой была собрана значительная сумма в несколько десятков тысяч долларов. Сумма эта была, с согласия Великой Княгини Виктории Федоровны, передана в распоряжение русского Красного Креста.
9 - Наследный принц Карл Лейнингенский происходил из старинной и знатной семьи владетельных Лейнингенских, состоящих в родстве с Английским королевским домом. Марии Кирилловне он приходился троюродным братом.
10 - Г. К. Граф, сопровождавший Императора Кирилла Владимировича в Его поездке в Данию на похороны Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, сообщает в своих воспоминаниях: "На следующее утро Государь опять поехал на виллу Хвидор проститься с Великими Княгинями. Он довольно долго с ними беседовал. Ему всегда было неприятно, что, судя по письму Марии Федоровны к Николаю Николаевичу, по поводу принятия им титула, у ней осталось "горькое чувство" по отношению и нему. Но, как и можно было ожидать, письмо составляла не сама Императрица и в действительности она никакого "горького чувства" к Кириллу Владимировичу не питала. Наоборот, Великие Княгини заверили его, что Императрица всегда его тепло вспоминала и считала правильным, что он заявил свои права на престол. Это было очень приятно узнать Государю. Он только жалел, что вместо того, чтобы писать письмо, не поехал сам в Копенгаген. В личном разговоре с Императрицей он бы объяснил мотивы, которые им руководили при принятии титула; она бы его поняла".
11 - В одном из своих обращений Император Кирилл Владимирович писал: "Как старший Член и Глава Царского Дома, приняв на себя блюстительство Государева Престола, Я в праве был ожидать, после призыва моего, со стороны Русских Людей единения и послушания Основным Законам Российской империи. Но с глубокой скорбью Мне пришлось убедиться, что смута помрачила разум и опустошила совесть многих: иные забыли Присягу, в других извратилось ее понимание и утеряно сознание Долга перед Родиной и перед Мною, первым Ея Слугою и Законным Правопреемником Императоров Российских. Напрасными оказались Мои неоднократные обращения к бывшему Верховному Главнокомандующему Великому Князю Николаю Николаевичу, коего помощь считал я столь ценною для предпринятого мною дела спасения России. С глубокой горестью я убедился в тщетности Моих к нему обращений. Его Императорское Высочество не внял моему призыву...".
„Новое Время", 22 апреля 1924 г.
12 - Георгий Карлович Граф, так же как и Великий Князь Кирилл Владимирович, закончил в Петербурге Морскую Академию, где зимой 1911/12 г. они иногда встречались. Мать Г. К. Графа была довольно близко знакома с Великой Княгиней Марией Павловной, матерью Кирилла Владимировича. Она работала на складе Великой Княгини во время японской, а затем и первой мировой войны и была одной из главных ее помощниц по заготовке белья для раненых. Знала она хорошо и Великую Княгиню Викторию Федоровну, с которой Г. К. Граф встретился в Мюнхене в 1922 г. В 1924 г. ему было предложено стать начальником канцелярии Владимира Кирилловича в Кобурге. На этом посту он заменил Долинского.
13 - Великий Князь Борис Владимирович состоял в морганатическом браке с З. Рашевской.
14 - Великий Князь Дмитрий Павлович вступил в брак с американкой Одри Эмери в 1926 г. Впоследствии развелся с женой и жил в Швейцарии, где скончался в 1941 г.
15 - Лорд Льюис Моунтбаттенский (1900-1979), сын принца Баттенбергского. Во время первой мировой войны участвовал в Ютландской битве. В годы второй мировой войны командовал авианосцем "Иллюстриус" (1941), возглавлял воздушно-морские операции (1942-1943), с 1943 г. Главнокомандующий союзными войсками в Юго-Восточной Азии. Вице-король Индии с 1947 г., он пытается решить индийский вопрос наилучшим образом, с учетом интересов Великобритании. С 1959 г. адмирал флота, с 1959 по 1965 г. - начальник Штаба обороны. Был убит в 1979 г. террористами ИРА.
16 - Принц Луи-Фердинанд Прусский, внук императора Вильгельма II, был вторым сыном кронпринца Вильгельма и кронпринцессы Цецилии (дочери Великой Княгини Анастасии Михайловны). Старший сын Кронпринца лишился прав на престол, вступив в морганатический брак, и впоследствии был убит на польском фронте в самом начале второй мировой войны.
17 - Дорн - город в Нидерландах, близ Утрехта. Здесь в своей резиденции - средневековом замке - проживал после отречения бывший император Вильгельм II.
18 - Г. К. Граф вспоминал об увлечении техникой Великого Князя Владимира Кирилловича: "Любовь к технике и практическим знаниям стала сказываться у него с детства. В обществе моего сына они проводили долгие часы за постройкой различных сооружений из свинчивающихся пластинок ("меккано"), проявляя упорство, находчивость, аккуратность - и большую медлительность. Создаваемые им модели можно было выставить в витрине любого большого магазина. К тому же эти модели не только были красивы, но и были настолько хорошо сконструированы, что могли прекрасно действовать, выдерживая сложные испытания своих молодых конструкторов".
19 - Речь идет о дизельном заводе в Стэнфорде, куда Великого Князя устроили практикантом королева Мария и инфанта Беатриса и где он, по свидетельству Г. К. Графа, "быстро заслужил лучшие отзывы заводской администрации".
20 - Польский гербовник содержит сведения о старинном роде Злотницких, герба Новина. Там упоминаются Адам, сражавшийся под предводительством Чернецкого, Кароль Остафей, хорунжий гусарский, сын которого участвовал в битве под Веной; Ежи, участник всех войн при Яне Казимире, "Миколай, честник коронный, прославленный мужеством в битвах под Хочимом, Веной, Парканами и Стрыгонем".
21 - Герцоги Пармские, ведущие начало от Филиппа Бурбонского, младшего брата Карла I, сохранили титул Королевских Высочеств.
22 - Это положение было узаконено Актом Великого Князя Владимира Кирилловича.